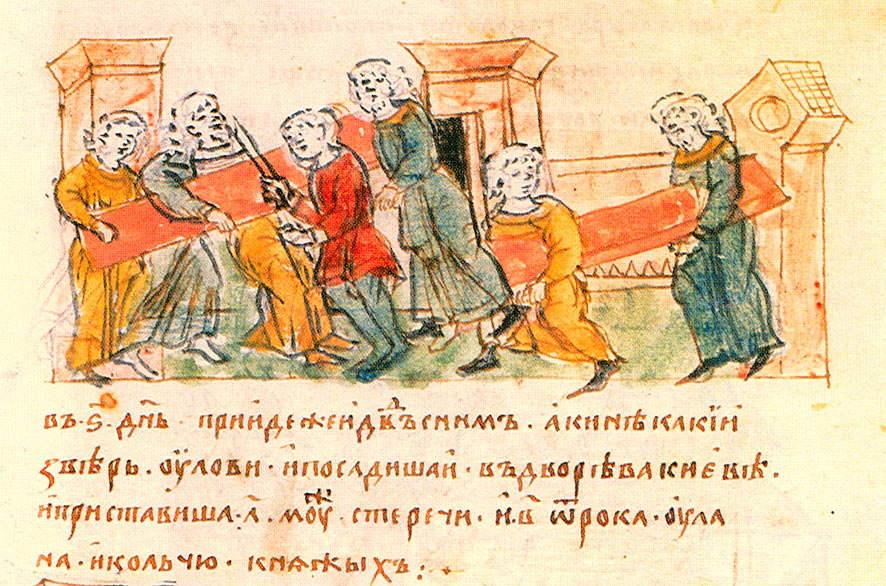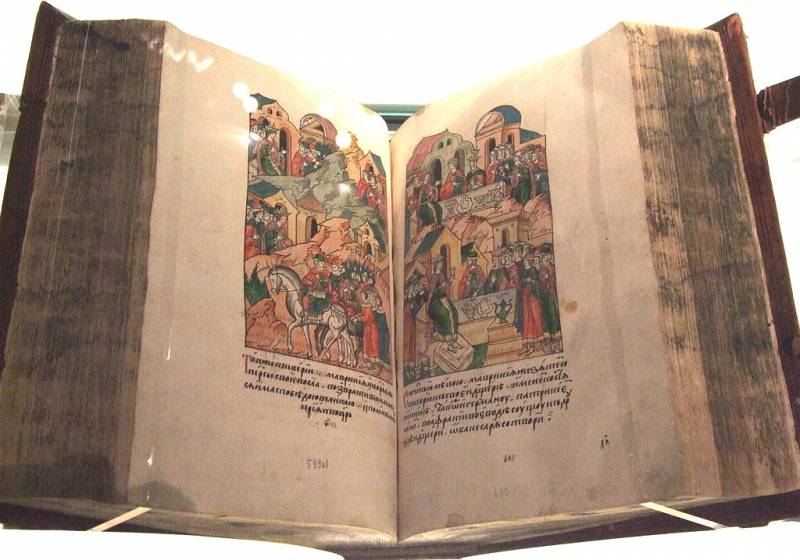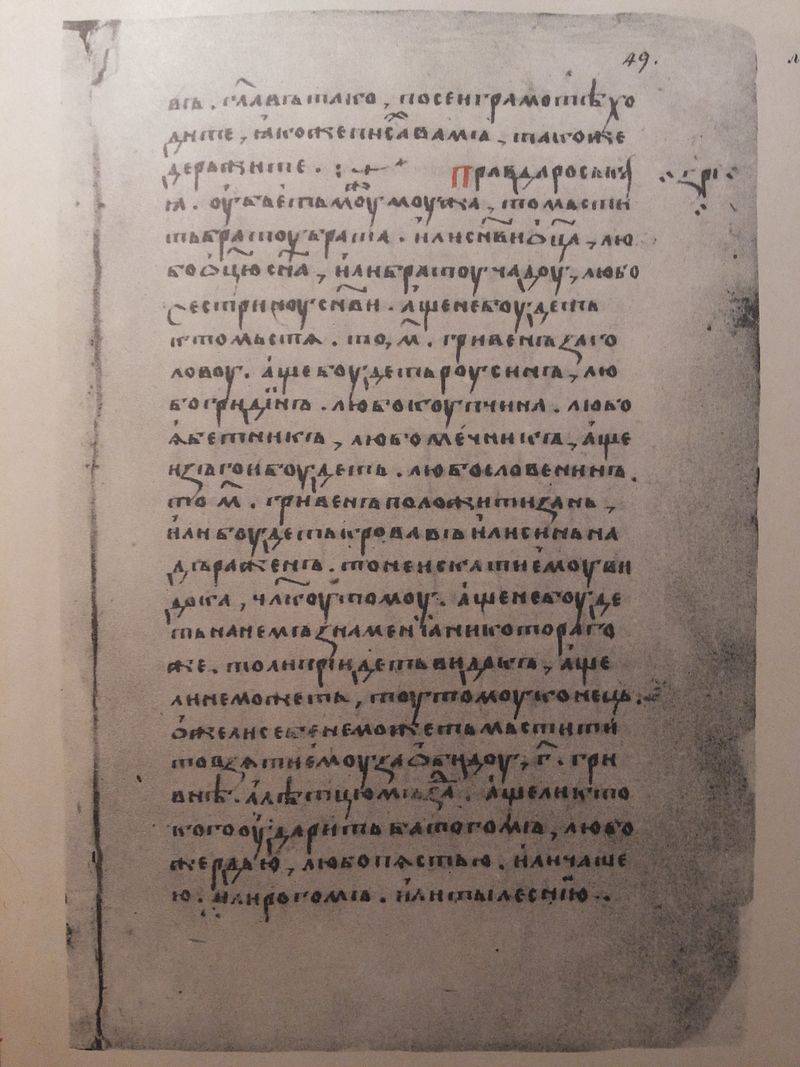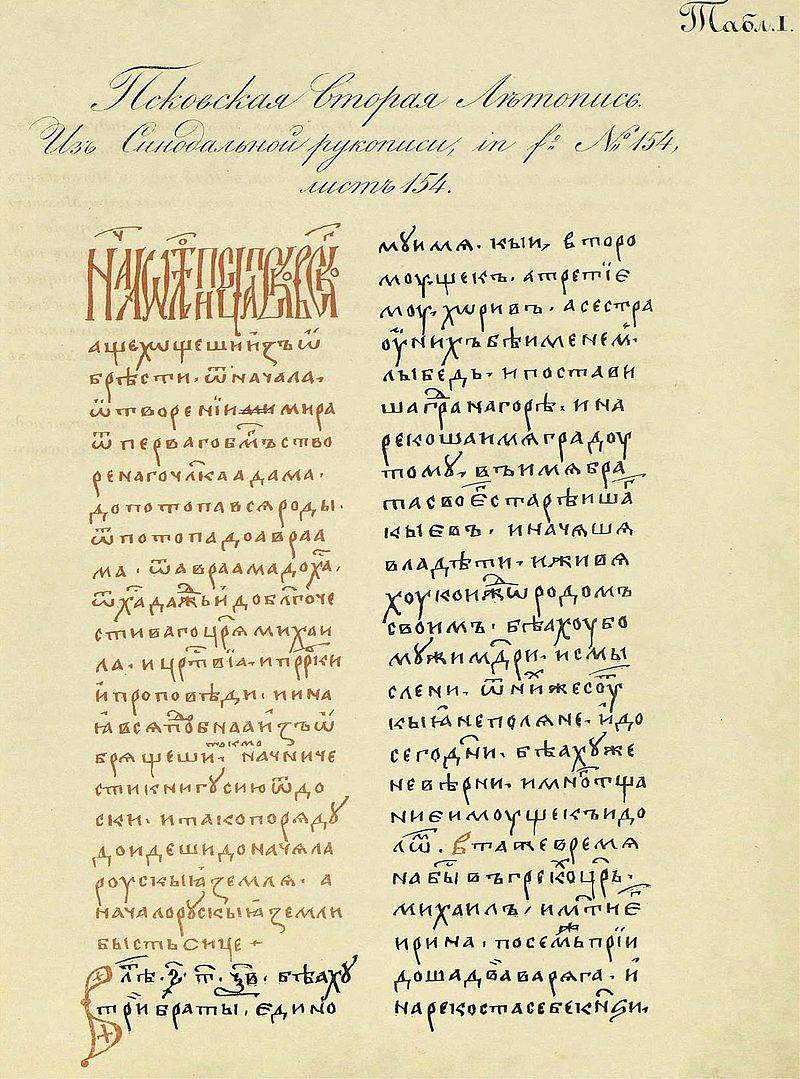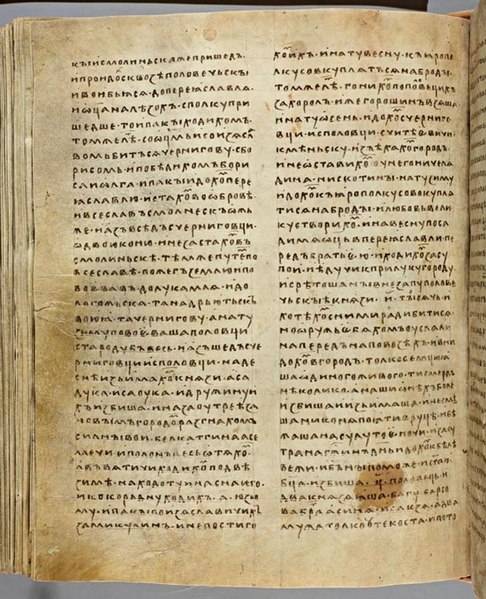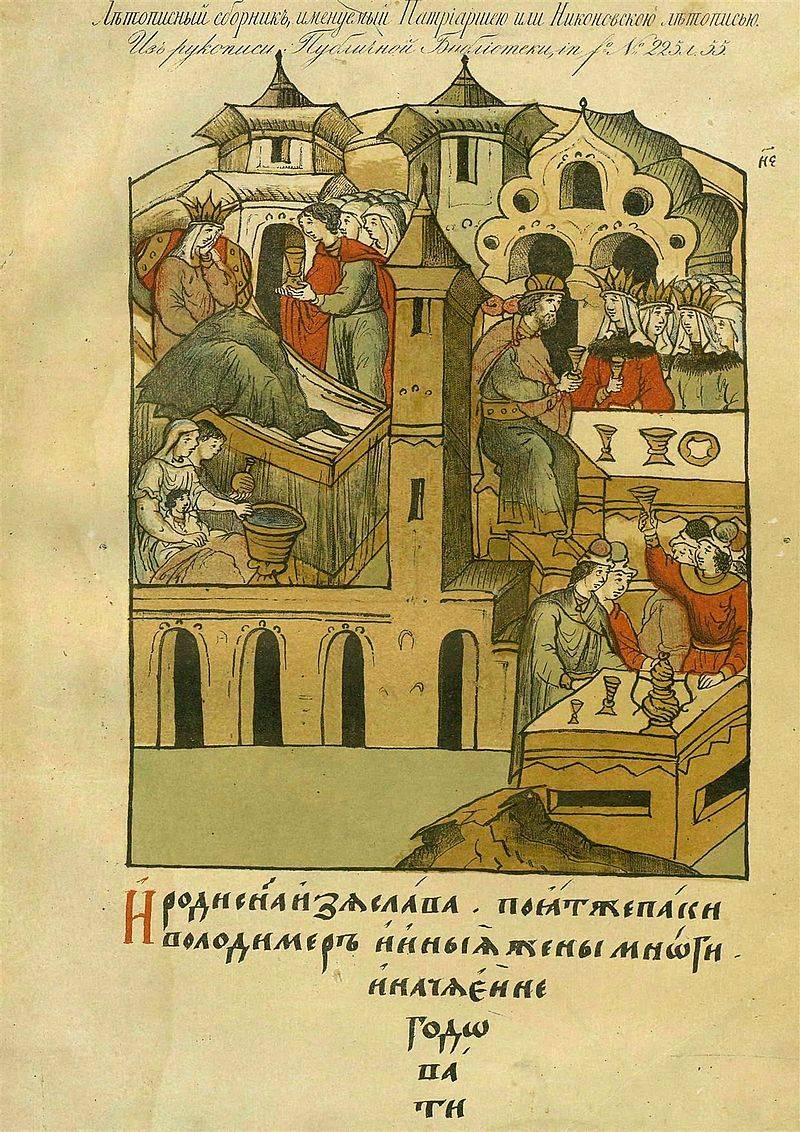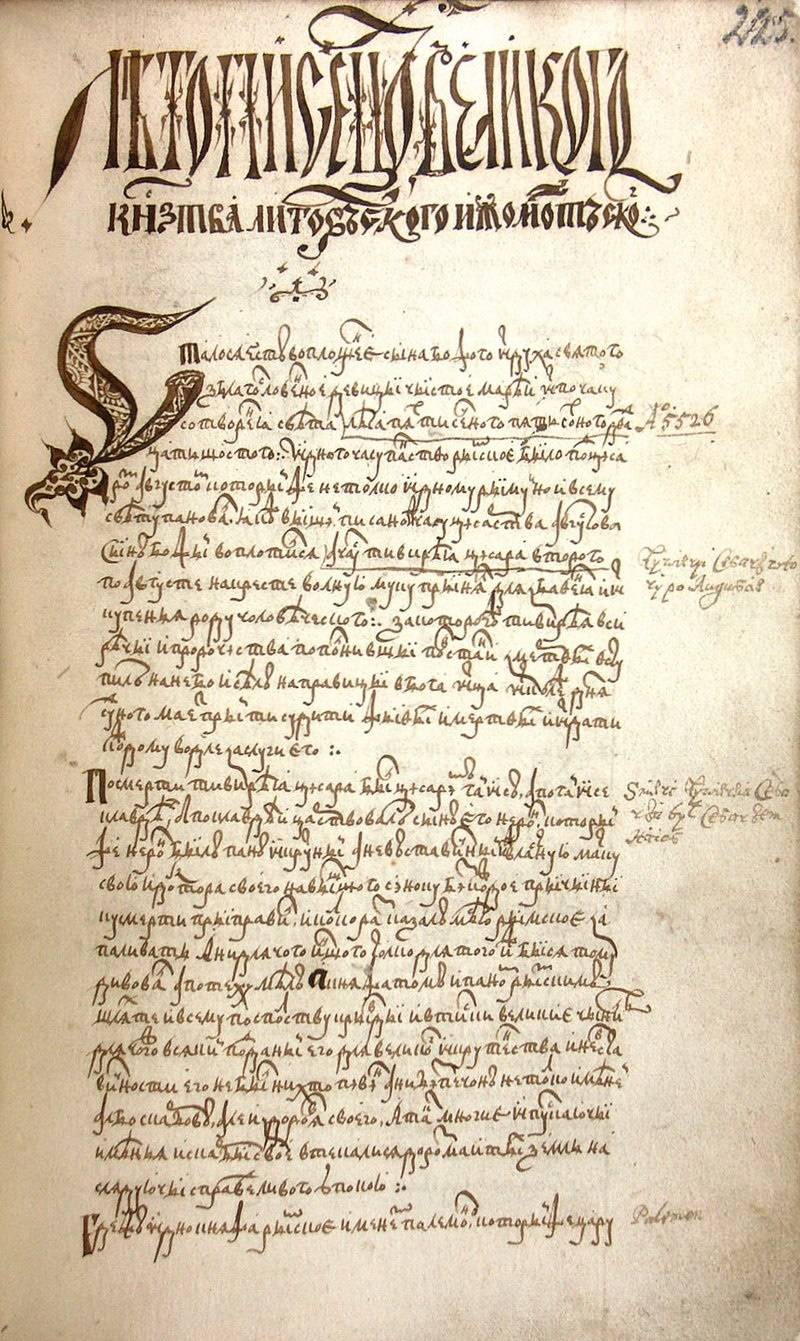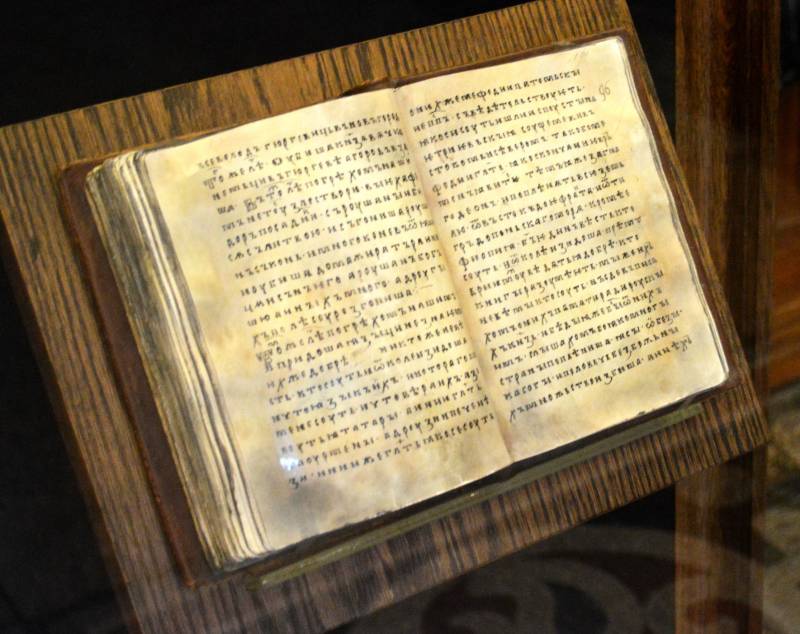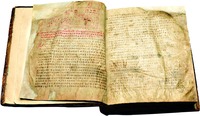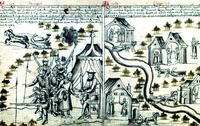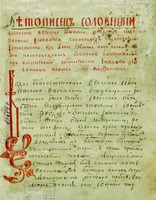Обновлено: 10.03.2023
Что такое летопись? Определение летописи. Когда появились летописи? Что содержалось в летописях? Первая русская летопись. Летописец Нестор. Повесть временных лет.
У любого государства или народности есть историческая память – череда событий, предшествующих современности. Именно на нее опираются люди, так как историческая память содержит в себе опыт предков. Ранее все важные события из жизни населения фиксировались в летописях. В этой статье мы расскажем, что такое летописи и как они появились на Руси.
Что такое летопись? Определение летописи
Летопись – это запись исторических событий, связанных с жизнью государства. Летопись можно назвать оригинальным жанром древнерусской литературы. На Руси летописи велись с XI по XVII век. Люди стали фиксировать важные события в летописях со времен появления письменности.
Наиболее древние русские летописи не сохранились, однако благодаря летописцам последующих веков мы можем узнать о наиболее значимых событиях из жизни государства. Они не только вели запись своего времени, но и переписывали старые летописи для более надежного их сохранения.
Обычно летописи составляли монахи по распоряжениям князей. В них содержалась информация о войнах, переворотах, стихийных бедствиях, существенных изменениях во внутренней и внешней политике.
Летописцы при составлении летописей опирались не только на документы, но и на рассказы других людей или на собственные впечатления от того или иного события.
Первая русская летопись. Первый русский летописец
Летопись состояла из двух частей – вводной и аналитической. Во вводной части летописец описал зарождение и становление славянской народности. Вводные статьи не датировались и не делились по годам.
Аналитическая часть летописи начинается со статьи 852 года. Именно эта часть летописи положила начало датированию русской истории.
К тому же, каждый из авторов летописи вносил в нее свое идейное содержание, опираясь в том числе и на собственные домыслы о тех или иных событиях.
Русские летописи — уникальный историографический феномен, письменный источник раннего периода нашей истории. До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению ни об их авторстве, ни и об их объективности.
Главные загадки
Что такое летопись
Кто автор
Однако некоторые историки всерьез сомневаются в том, что монах Киево-Печёрской лавры вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к летописному своду о колыбельном периоде русской нации. Академик А. А. Шахматов отводит ему роль переработчика Начального свода.
Что известно о Несторе? Имя вряд ли родовое. Он был монахом, значит, в миру носил другое. Нестора приютила Печёрская обитель, в стенах которой и совершал свой духовный подвиг трудолюбивый агиограф конца XI — начала XII веков. За это он был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных (т. е. угодивший Богу монашеским подвигом). Прожил он около 58 лет и считался глубоким старцем по тем временам.
Авторство устанавливали косвенным путём. С опорой на фрагменты её текста в составе уже Ипатьевской летописи, которая начинается с безымянного упоминания её автора — черноризца Печёрского монастыря. Поликарп, другой печёрский монах, прямо указывает на Нестора в послании к архимандриту Акиндину, датируемом XIII веком.
Сравнения
Где начальная летопись
Её нет. Ни у кого. Этот краеугольный камень нашей русской государственности — какой-то фантом. Все о нём слышали, от него отталкивается вся русская история, но никто за последние лет 400 не держал его в руках и даже не видел.
Кто виноват в путанице
Но все эти списки – по большому счёту, лишь копии, в которых Начальная летопись предстает в совершенно разных вариантах. Начальный свод в них просто тонет. Учёные связывают это размывание первичного источника с неоднократным и отчасти некорректным его использованием и редактированием.
Подлежит ли Начальная летопись восстановлению
В данной статье рассмотрены письменные исторические источники Руси, в частности, летописи. Изучены способы сбора и хранения, дополнения рукописей и факторы влияния на их содержание. Также обращено внимание на связь религии и первых летописцев-монахов, а также методы изучения рукописей, акцент сделан на методе Шахматова. Дается сравнительный анализ летописных текстов в области и объективности достоверности.
Ключевые слова: исторический письменный источник, достоверность, объективность, летописи, авторство.
В разные эпохи человек, в большей или меньшей степени, старался зафиксировать свои знания об окружающем мире. Эти попытки имели разные формы в зависимости от степени развития общества и уровня исторических знаний. Одним из важнейших исторических источников, обладающим многосторонним источниковедческим потенциалом, является летопись.
По В. О. Ключевскому, исторические источники представляют собой определенную категорию памятников [3, с. 92]. И действительно, в них отражается угасшая жизнь и целых обществ, и отдельных личностей. Благодаря тем или иным сведениям дополняется история, дошедшие в той или другой форме сведение являют собой остатки жизни в прошлом. Также считается, что исторические источники содержат информацию о реальных явлениях в общественной жизни и человеческой деятельности, которые происходили в предыдущие столетия.
Прежде всего, это была письменность. Особое внимание уделяется письменным источникам, так как они являются фундаментом исторических исследований.Виды письменных источников могут быть разделены на две большие группы: памятники актового характера и памятники литературного. К первой группе принадлежат все грамоты или акты в широком смысле этого слова, законодательные памятники, письма, юридические документы и т. д. Ко второй — летописи, хроники, хронографы, жития, мемуары, памфлеты и т. д.
Мы уже указывали, что одним из важнейших исторических источников можно считать летописи. Именно эти исторические памятники имеют наибольшую историческую ценность и по праву считаются главными документами прошлого. Они были хорошо структурированы, содержательны и довольно детальны. Первые летописцы, появившиеся на Руси, смогли собрать информацию о прошлом за несколько столетий. В итоге ими была воссоздана предыдущая хронология событий, очень важная и ценная, в которой содержались сведения о военных походах, датах основания городов, договорах. В произведениях даны реальные характеристики князьям, было рассказано о расселении племён. Много знаний летописцы брали из фольклора: предания, песни, легенды, сказки, которые являлись великой неписаной историей Древней Руси.
С наибольшей полнотой летопись рассказывает о крупных политических событиях, касавшихся светских и духовных феодалов. Войны между князьями, постановления епископов и митрополитов, княжеские съезды, события в княжеских семьях (смерти, рождения, браки и т. д.) занимают внимание летописца. На основании летописей можно составить почти полные биографии выдающихся князей и проследить их семейные связи.
Религиозный элемент играл большую роль в изложении событий в летописных сводах, так как творцами летописи большей частью были монахи. Также можно отметить, что духовенство играло исключительную роль при окончательной обработке летописных сводов, в состав которых вошли отдельные сказания и записи, составленные не духовными, а светскими лицами [6, с. 496].
Следует обратить внимание на различные летописные школы
XV век ознаменовался новыми явлениями в летописании. Политика московских великих князей нашла свое отражение в общерусских летописных сводах. О первом московском общерусском своде дают представление Троицкая летопись XV в. (погибла при пожаре 1812) и Симеоновская летопись в списке XVI в.
Троицкая летопись кончается 1409. Для составления ее были привлечены разнообразные источники: новгородские, тверские, псковские, смоленские и др. Происхождение и политическая направленность этой летописи подчеркиваются преобладанием московских известий и общей благоприятной оценкой деятельности московских князей и митрополитов.
Метод Шахматова получил развитие в трудах М. Д. Приселкова, усилившего его историческую сторону. Значительный вклад в изучение русской Летописи внесли последователи Шахматова — Н. Ф. Лавров, А. Н. Насонов, Летописи В. Черепнин, Д. С. Лихачев, С. В. Бахрушин, А. И. Андреев, М. Н. Тихомиров, Н. К. Никольский, В. М. Истрин и др. Изучение истории летописания составляет один из самых сложных разделов источниковедения и филологической науки [5, с. 43].
Также стоит отметить, что при работе с летописными материалами следует помнить о неточности и условности научной терминологии. Это связано с отсутствием четких границ и сложностью истории летописных текстов, с текучестью летописных текстов, допускающих постепенные переходы от текста к тексту без видимых градаций памятников и редакций. Уточнение летописеведческой терминологии — одна из насущных задач летописного источниковедения[4, с. 367].
Однако одним из самых сложных в летописеведении является понятие авторства. Само представление об авторе (или составителе, или редакторе) летописного текста оказывается в значительной степени условным. Каждый из них, прежде чем приступить к описанию событий и процессов сначала переписывал один или несколько предшествующих летописных сводов, бывших в его распоряжении. Для автора летописи критерием достоверности его личных впечатлений было их соответствие коллективному опыту общества. В этом отношении сама форма летописных сводов оказывалась идеальным воплощением особого исторического сознания их авторов [7, с. 374].
1. Ипатьевская летопись: [Текст] / под ред.А. А. Шахматова. — 2-е изд. — М.: СПб., 1962. — 392 с.
3. Ключевский, В. О. Курс русской истории [Текст] / В. О. Ключевский. Сочинения: В 9т. — М.: Изд-во СПБ, 1987. — 230 с.
5. Медушевская, О. М. Теоретические проблемы источниковедения [Текст] / О. М. Медушевская. — М.: Изд-во МГИАИ, 2005.– 43 с.
6. Тихомиров, М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII вв. [Текст] / М. Н. Тихомиров. Вып. 1. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. — 496 с.
Основные термины (генерируются автоматически): летопись, источник, летописец, текст, автор, летописание, летописный свод, памятник, свод, троицкая летопись.
И мы сохраним тебя,
Русская речь,
Великое русское слово.
Анна АХМАТОВА
Но это было! Было! Было!
Николай КЛЮЕВ
Летописи — рукотворные литературные памятники русского народа, по существу — его овеществленная и навсегда сохраненная для многих поколений историческая память.
Начертанные в разные времена пером на пергаменте или особо прочной, сделанной из льна бумаге, они запечатлели в документальных текстах события минувших веков и имена тех, кто творил реальную русскую историю, ковал славу или, напротив, покрывал позором Отечество. Редкие летописи сохранили имена своих создателей, но все они были живыми людьми со своими страстями и симпатиями, что неизбежно отражалось и в вышедших из-под их пера рукописных текстах. В архиве великого нашего писателя Николая Васильевича Гоголя, который одно время больше всего на свете мечтал стать профессором истории в столичном университете, сохранилось множество подготовительных заметок для будущих лекций. Среди них — размышления о безымянных русских летописцах и переписчиках:
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…
На создание подобных летописных списков уходили многие годы. Летописцы (рис. 83) трудились во славу Господа в столицах удельных княжеств, крупных монастырях, выполняя заказы светских и церковных властителей и в угоду им нередко перекраивая, вымарывая, подчищая и сокращая написанное до них. Каждый мало-мальски уважающий себя летописец, создавая новый свод, не просто копировал своих предшественников слово в слово, а вносил посильную авторскую лепту в хартию, то есть рукопись. Поэтому-то многие летописи, описывая одни и те же события, так разнятся между собой — особенно в оценке произошедшего.
Официально летописание на Руси продолжалось чуть более шести столетий. Первые летописи по образцу византийских хронографов были созданы в XI веке, а к концу XVII века все само собой завершилось: начиналось время Петровских преобразований, и на смену рукописным творениям пришли печатные книги. За шесть столетий были созданы тысячи и тысячи летописных списков, но до нынешних времен их сохранилось около полутора тысяч. Остальные — в том числе и самые первые — погибли в результате погромов и пожаров. Самостоятельных летописных сводов не так уж и много: подавляющее большинство списков — это рукописное тиражирование одних и тех же первоисточников. Самыми старыми из сохранившихся считаются летописи: Синодальный список Новгородской первой (XIII–XIV вв.), Лаврентьевская (1377 год), Ипатьевская (XV в.), иллюстрированная Радзивиловская (XV век).
Оригинальные летописи имеют собственные названия — по именам создателей, издателей или владельцев, а также по месту написания или первоначального хранения (нынче все летописи находятся в государственных библиотеках или иных хранилищах). Например, три самые знаменитые русские летописи — Лаврентьевская, Ипатьевская и Радзивиловская — названы так: первая — по имени переписчика, монаха Лаврентия; вторая — по месту хранения, костромского Ипатьевского монастыря; третья — по имени владельцев, литовского великокняжеского рода Радзивиллов.
* * *
Автор не намерен утомлять читателей специальными текстологическими, филологическими и историографическими вопросами. Моя задача и цель всей книги, как станет понятно чуть позже, заключается совсем в другом. Однако для лучшей ориентации читателей-неспециалистов считаю необходимым сделать некоторые терминологические разъяснения. Те, кому эти термины известны, могут их безболезненно пропустить. Те же, кому ряд понятий в новинку или в диковинку, могут обращаться к нижеприводимому пояснительному словарику всякий раз, когда потребуется.
Полезно усвоить также еще несколько понятий.
Летописный свод — соединение в единое повествование разных летописных записей, документов, актов, беллетристических повестей и житийных произведений. Подавляющее большинство дошедших до нас летописей представляют собой своды.
Летописный список — переписанные в разное время, разными лицами (и к тому же в разных местах) одинаковые летописные тексты (рис. 85). Понятно, что одна и та же летопись может иметь множество списков. Например, Ипатьевская летопись известна в восьми списках (при этом ни одного первичного списка, именуемого протографом, начальных летописей ко времени, когда ими занялись историки-профессионалы, не сохранилось).
Летописный извод — редакционная версия какого-либо текста. Например, известны Новгородская первая и Софийские летописи старшего и младшего изводов, которые отличаются друг от друга по особенностям языка.
Вот с этой литературной химерой (в позитивном смысле) и имеет дело современный читатель. Что удивительно: если подлинного Несторова текста теперь уж не дано увидеть и прочесть никому, то лицезреть самого Нестора может каждый желающий. Мощи первого русского летописца, обернутые в траурные одеяния, открыты для обозрения в подземных галереях Киево-Печерской лавры. Они покоятся в углубленной могильной нише, прикрытой прозрачным стеклом и освещенные приглушенным светом. Следуя традиционным экскурсионной маршрутом, можно пройти в каком-нибудь метре от родоначальника русской исторической науки. За прошедшую жизнь мне довелось трижды постоять рядом с Нестором (впервые — в 14-летнем возрасте). Не хотелось бы кощунствовать, но и истины скрывать не стану: каждый раз (особенно уже в зрелом возрасте) я ощущал ток энергии и прилив вдохновения.
Читайте также:
- Сочинение легко ли быть нравственным человеком сочинение
- Slow city сочинение на английском
- Сочинение на тему запретная любовь
- Художник обязан скрыть от публики те усилия сочинение егэ
- Сочинение впечатление о рассказе о чем плачут лошади
Лицевой летописный свод. Хронограф. Относится ко второй половине XVI века. Создан в Москве. Материалы: бумага, чернила, киноварь, темпера; переплет – кожа 44,2×31,5 Поступил в 1827 году. Манускрипт представляет собой часть Лицевого летописного свода, который был создан по заказу царя Ивана Грозного во второй половине XVI века. Долгое время находился в царском книгохранилище, а в 1683 году был передан в Мастерскую палату и вскоре разделен на части, каждая из которых имела свою судьбу. Сведения о Лицевом Хронографе прослеживаются в каталогах библиотеки Печатного двора (1727 и около 1775). В 1786 году этот же том фигурировал в описи книг Типографской библиотеки, предназначенных для передачи в Синодальную библиотеку. В начале XIX века том принадлежал греческому дворянину Зою Павловичу Зосиме, крупному коммерсанту и благотворителю. РНБ инв. ОСРК. F. IV.151
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна…
А.С. Пушкин. Борис Годунов.
«На скользком крыльце количество культурных людей резко сокращается!»
Пензенская газета. «Наш город».
Историческая наука против лженауки. В последнее время стало появляться все больше и больше материалов, которые, как бы это помягче сказать, не то чтобы берут под сомнение целые эпохи современной истории, но и попросту переворачивают их с ног на голову. И если сомневаться в исторических реалиях и можно и должно, то всякие там «перевороты» требуют очень серьезной основы. Кавалерийским наскоком тут ничего не решить. Поэтому стоит, наверное, сначала познакомить читателей «ВО» с тем фундаментом, на котором как раз и выстроено здание отечественной истории, с тем, чтобы на этой основе интересующиеся данной темой посетители нашего сайта могли бы рассуждать о сути вопроса с большей уверенностью на основе знаний, а не фантазий, почерпнутых неведомо откуда.
Начнем с летописей, поскольку эти письменные источники содержат главный объем информации о нашем прошлом, который никакие артефакты не заменят. Так вот, что же такое эти самые летописи, сколько их и что они собой представляют? А то ведь некоторые из тех, кто ничтоже сумняшеся пишет здесь об этом, ведут речь о двух-трех (!) документах, да вдобавок еще и подделанных.
Итак, летописи — это сочинения XI—XVIII веков, рассказывающие о событиях, имевших место в тот или иной год, то есть по «летам». Летописи велись и в Киевской Руси, и во многих сопредельных ей землях и княжествах, Великом княжестве Литовском, а затем и Русском государстве. Их можно сравнить с западноевропейскими анналами и хрониками как по характеру и стилю изложения, так и по их содержанию.
Летопись велась по годам. Отсюда ее «погодный характер», в силу чего они обычно начинались словами: «Въ лѣто…» («В год…»), что и дало летописям их название. Количество сохранившихся до нашего времени летописных документов очень велико и составляет порядка 5000 единиц! Это, кстати, информация для тех, кто пишет, что летописи при Петре Первом жгли. Жгли? Жгли, жгли, а… 5000 томов все-таки осталось? Дров не хватило или «пожарники» на сторону их продали, а сами бражничать в кабак пошли?! Так при Петре с этим было строго! За неисполнение царского указа рвали ноздри, били кнутом и угоняли в Даурию дикую…
Здесь следует немного прерваться и, как об этом любят заявлять адепты «фолкистории», включить логику. Представим на минуту, что те же немецкие историки, «которым Ломоносов морды бил», собрали все эти летописи воедино и решились бы их подделать. Вспомним, сколько их было, что они плохо владели русским языком — и что же получается? С 1724 по 1765 год (год смерти Ломоносова) иностранных академиков у нас было… 14 человек. И не все они были историками. А теперь разделим 5000 на 14 (пусть уж) и получим 357 на каждого. Представим себе объем переписывания – на основе того, что до нас дошло и получим… год каторжного труда над каждым фолиантом. А ведь они еще и другими делами занимались, на балы ездили, кляузы на Ломоносова писали, а когда и пьяными валялись, не без этого, время такое было. Но все же многовато, не так ли? Им и трех бы жизней не хватило все это переписать!
Правда, потом понаехало еще немцев. И к 1839 году их стало… 34 (всего по списку), хотя понятно, что те прежние уже умерли, но сколько-то ведь они успели… «переписать». А эти продолжили, не так ли? Но даже и в этом случае по 147 летописей на брата это уже явный перебор! И ведь никому этого каверзного дела они доверить не могли. У русского же по пьяни, что на уме, то и на языке. Кто-нибудь бы да проболтался обязательно. И не один! А уж тогдашние патриоты не замедлили бы о том донести куда надо – «Слово и дело государевы!» крикнули бы тут же, а там и застенок, и плети, и дыба, весь тайный умысел сразу бы раскрылся. Ведь чем меньше чужих, тем своим достается больше. Так и Ломоносов, безусловно, думал. Недаром каждой императрице оды хвалебные писал на восшествие. Понимал правила игры! Умел подольститься…
И опять же дело ведь было не в том, чтобы просто их переписать, а еще и исказить России во вред, а это требовало немалых знаний и фантазии, и общего плана работы на сотни лет вперед. Есть и еще один важный вопрос: зачем их вообще переписывать или что-то в них менять? Людям с психологией того времени, презиравшим большинство россиян. Менять их историю? Зачем? Разве мы изменяем историю папуасам? «Хватит и того, что мы несем им нашу европейскую культуру!» Вот и все, о чем в то время могли думать Миллер, Шлёцер и другие, и… не более того. Так, что перед нами типичная «теория заговора», то есть очередная глупость, не более.
Академический список Новгородской первой летописи, 1440-е годы, начало текста «Русской правды». Греков Б.Д. Правда Русская. Т. III. 1963. Подделку старинных документов затрудняет еще и их рукописный характер. При том же Ломоносове еще писали гусиными перьями, но… такой шрифт, как устав и полуустав, уже не применяли. Ими очень трудно писать, и много страниц за день не напишешь – рука отвалится. Летописцам спешить было-то ведь некуда, а тут нужно было поторапливаться…
Кстати, вот хороший пример того, как надо знать язык, чтобы добиться поставленной цели. В 1944 году во время наступления в Арденнах впереди германских войск действовали группы диверсантов, одетых в военную форму союзников и знавших английский язык. На чем они попались и из-за чего эта операция сорвалась? На военной заправке один из них, представляясь американцам, попросил «петролеум», хотя должен был спросить «гэс». И он правильное слово использовал, но… не знал, что янки так не говорят. А тут летописи, полные церковнославянских и древнерусских слов и диалектизмов! Русский-то язык они выучить толком не смогли, а древнерусский освоили в совершенстве?! Со всеми его семантическими тонкостями, знанием древней истории (которую никто уже и не знал!), словом, полагать такое – полный бред или специальное измышление, рассчитанное на людей глубоко невежественных или с дефективной психикой. Впрочем, у нас, как, впрочем, и везде, в других странах, всегда было много и тех, и других! Пушкин-то свои бессмертные строки (см. эпиграф) не зря написал, ох как не зря!
Но это количественный показатель. И в дальнейшем мы обратимся и к содержательной стороне вопроса «о переписывании», а пока отметим, что большинство летописей в оригинальном виде до нас не дошло. Зато известны их копии – так называемые «списки» (от слова списывать), сделанные позднее, уже в XIII–XIX веках. Древнейшие летописи XI–XII веков известны именно в списках. Последние классифицируются учеными по видам (то есть редакциям) – изводам. Нередко в текстах летописей встречаются соединения из нескольких источников, что наводит на мысль о том, что дошедшие до нас летописные материалы – это не что иное, как сборники разнообразных источников, из которых самые ранние не сохранились. Эту мысль впервые высказал П. М. Строев (1796-1876), русский историк, действительный член Петербургской академии наук, и сегодня таково и общепринятое мнение историков. То есть большинство летописей – это своды ранее существовавших текстов, и именно так к ним и следует относиться.
Летописные тексты относятся к трем основным типам. Это синхронные записи по годам, «хроники» ретроспективного характера, то есть рассказы о событиях прошлого, и летописные своды.
Самыми древними рукописными текстами летописей считаются пергаментные «Летописец вскоре патриарха Никифора» (последней четверти XIII века), затем идет Синодальный список Новгородской первой летописи старшего извода (относящийся ко второй половине XIII века, и затем ко второй четверти XIV века), так называемая Лаврентьевская летопись (1377) и несколько более поздняя Ипатьевская летопись (1420-е годы).
2-я Псковская летопись. Факсимильная копия первого листа «Синодального списка», датируемого концом XV века. Вступление псковского летописца и фрагмент «Начальной Летописи» – лето 6362 от сотворения мира, основание Киева. Синодальный список Псковской второй летописи, середина 1480-х годов – ПСРЛ, Т.5
Летописи содержат огромный материал. Это исторические факты, и примеры из библейской, а также античной истории и истории соседствовавшей с нами Византии, «жития» «повести», «слова», а также тексты агиографического характера, сказания, послания, и даже тексты документов. В частности, это международные договоры и различные правовые акты. Литературные произведения также весьма часто использовались в летописях, подменяя собой исторические источники. Так среди них нам известны: «Поучение Владимира Мономаха», «Сказание о Мамаевом побоище», «Хожение за три моря» купца Афанасия Никитина и др. Понятно, что взгляды летописцев не имели ничего общего с нашим сегодняшним взглядом на вещи. В них очень мало сведений об отношениях экономического характера, зато много внимания уделено деянием князей и царей, а также их окружению, деятельности церковных иерархов, и, разумеется, войнам. О простых людей так фактически ничего нет. Народ в летописях обычно «безмолвствует».
Лаврентьевская летопись, оборот 81-го листа. Часть поучения Владимира Мономаха с описанием его военных походов. Сайт Российской национальной библиотеки
Интересно, что у большинства известных нам русских летописей их названия носят условный характер, и не соответствуют их собственным названиям. Почему так получилось? Ну, конечно, не из-за происков каких-то мифических заговорщиков, а в ранний период их изучения, когда названия давались им в зависимости от их происхождения, мест хранения, и даже принадлежности какому-то лицу. Также условна и нумерация в наименовании некоторых летописей. Например, Новгородские первая — пятая, Софийские первая и вторая, Псковские первая — третья. Она никак не связана со временем их написания, увы, это так, а исключительно с порядком публикации или иными привходящими обстоятельствами. Да ведь если подумать, то при наличии 5000 документов по-другому просто не могло быть. Ввести все эти тонные документов в научный оборот это настоящий подвиг служения науке, который, кстати говоря, все еще продолжается.
Другим интересным фактом, характеризующим русские летописи, является их анонимность. Летописцы очень редко вписывали в текст какие-либо сведения о себе, а если и позволяли персонифицированные вольности, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что люди они простые, не книжные, то есть… «передавать все будут без прикрас. Все как есть!» С другой стороны, составители летописных текстов часто ссылаются в качестве источника информации на самих себя: «прииде сам и видел, и слышал», либо знакомых «самовидцев», которым, случалось, видеть и «полк Божий на воздусях», и разные другие подобные этому чудеса.
Интересно, что большая часть современных исследователей, связывает цели написания летописей с… борьбой за власть. Ведь в силу своей уникальности никакого влияния на общество они оказать не могли. Но это был документ, который могли читать князья и тем самым получать информационное преимущество над теми, кто… их не читал! В частности, об этом писали М. Д. Присёлков, а Д. С. Лихачёв, В. Г. Мирзоев и А. Ф. Килунов в свою очередь писали о том, что русское летописания имело образовательные задачи, что это своего рода публицистика, оформленная в виде исторического сочинения. Но этому взгляду противоречат погодные записи, так что существует и такое мнение, что летопись могла иметь функцию еще и юридического документа, поскольку фиксировала те правовые прецеденты, на которые затем ссылались, да-да, представители правящей династии. То есть ориентировались они уже тогда не столько на настоящее, но и на будущее.
А вот И. Н. Данилевский считал, что со второй половины XI века летописи приобрели функцию «книг жизни», и должны были фигурировать на Страшном суде как «доказательства» праведности или неправедности власть предержащих. На это, правда, косвенным образом, указывают и сообщения о знамениях, то есть стихийных явлениях, с помощью которых Бог выражает свое одобрение либо порицание происходящим событиям. В любом случае поскольку грамотность была уделом немногих, письменное слово имело куда большее значение по сравнению с устным не только в обыденной жизни, но также и перед Богом. Отсюда, кстати, и множественность летописей. Многие властители стремились иметь собственные летописи, чтобы… «оправдаться ими» на Божьем суде.
Очень важно подчеркнуть, что в основе всех летописей древнерусского периода лежит древнерусский извод церковнославянского языка, включающий, однако, множество заимствований из древнерусского разговорного языка и делового. Этим он отличаются от сугубо религиозных текстов. Но кроме этих двух стилистических особенностей в летописях имеются и значительные диалектические отличия. То есть характерные языковые особенности в лексике, фонетике, указывают нам на регион написания тех или иных летописных сочинений. Грамматика и синтаксис труднее поддаются локализации, но, тем не менее, и эти особенности речи фиксируются и помогают в атрибуции сочинений. А вот белорусско-литовские летописи написаны на западнорусском письменном языке, который тоже надо было знать, но который в центральных районах России был малоизвестен.
А теперь в свете этих фактов, давайте еще раз вернемся к злополучным немцам-фальсификатором, «переписавшим» все наши летописи. Оказывается, плохо говорившие на языке Ломоносова немцы, на самом деле до тонкостей знали семантику и морфологию и древнерусского, и церковнославянского языка, да к тому же еще и все местные диалектизмы. Это уже за гранью здравого смысла вообще, и говорит о полном невежестве тех, кто подобное утверждает.
Летописный сборник, названный Патриаршей или Никоновской летописью. ПСРЛ. Т. 9
Как проходило создание древних русских летописей рассмотрел А. А. Шахматов. По его мнению, в начале существовал Древнейший свод, который был составлен где-то около 1039 года в Киеве. Затем в 1073 году его продолжил и дополнил иеромонах Киево-Печерского монастыря Никон Печерский. На его основе появился Начальный свод с предполагаемым оригинальным названием — «Временьник, иже нарицаеться летописание Русьскых князь и земля Русьская…», а уже затем была написана и «Повесть временных лет», дополненная отрывками из византийских хроник и русско-византийскими договорами. Ну, а самая первая редакция «Повести…» за авторством монаха Киево-Печерского монастыря Нестора появилась около 1113 года. За ней последовала Сильвестровская или Вторая редакция, попавшая в Лаврентьевскую летопись. В 1118 году появилась Третья редакция, сохранившаяся в Ипатьевской летописи. Ну, а затем куда только отрывки из этих летописных сводов не вставляли.
Считается, что изначально погодные записи были очень короткими – «В лето… не бысть ничего». И в них отсутствовали какие бы то ни было сложные нарративные конструкции. Но со временем они дополнялись и изменялись в лучшую сторону. Например, в рассказе о Ледовом побоище Новгородской 1-й летописи младшего извода по сравнению с рассказом Новгородской 1-й летописи старшего извода внесено изменение, количество убитых немцев стало «500», а до того было «400»! Ну, явная работа Миллера и других немецких историков, направленная на умаление нашей славной истории!
Как здесь уже отмечалось, летописей много. Например, есть множество местных летописей XII—XIV веков, содержащие… события в самых различных мелких княжествах и отдельных землях. Крупнейшими центрами летописания являлись Новгород, Псков, а также Ростов, Тверь и Москва. Рождение и смерти князей, выборы посадников и тысяцких, битвы и походы, церковные уставления и смерти епископов, игуменов, строительство церквей и монастырей, недород, мор, удивительные явления природы – все попало в эти списки.
Теперь давайте поближе познакомимся с летописным материалом отдельных регионов. Начнем с киевских и галицко-волынских летописей. В Киеве летописи вели монахи Печерского и Выдубицкого монастырей, и при дворе правящего князя.
Именно в Выдубецком монастыре была написана и Киевская летопись, которая датируется 1198 годом. По мнению историка В. Т. Пашуто, киевское летописание продолжалось до 1238 года.
В Галиче и Владимире-Волынском летописание велось с XIII века велось дворах князей и местном епископате. В 1198 году они были объединены с Киевской летописью. Известны они и в составе Ипатьевской летописи.
Одна из летописей сопредельных княжеств. «Хроника Великого княжества Литовского и Жомойтского», первая половина XVI века. Библиотека университета Вильно
Самая ранняя новгородская летопись была создана между 1039 и 1042 годами и, возможно, это были выписки из Древнейшего свода. Затем около 1093 года был составлен и Новгородский свод, на основе более ранних текстов. Затем последовали новые дополнения, и так появился «Свод Всеволода». Летописание осуществлялось и при Новгородской архиепископской (владычной) кафедре) практически без перерывов до 1430-х годов, что привело к появлению Новгородской владычной летописи, на основе которой был составлен текст Новгородской первой летописи, которая известна нам в двух изводах, то есть – редакциях, которые принято называть «старшим» и «младшим». Старший извод – это пергаментный Синодальный список XIII—XIV веков, считается древнейшим из дошедших до наших дней списков наших русских летописей. А вот Младший извод имеется сразу в нескольких списках, причем наиболее ранние относятся к 1440-м годам.
Новгородская первая летопись. Одна часть рукописи — XIII в., другая — XIV в. Материалы: пергамент, чернила; почерк — устав, переплет (конец XVIII в.) — картон, кожа. Открыта на рассказе о Батыевом нашествии на Русь в 1237 г. ГИМ
Далее известны Карамзинская летопись, не только с новгородскими местными, но и общерусскими известиями, конца XV — начала XVI веков. Затем идет Новгородская четвертая летопись в двух редакциях, а также Новгородская пятая летопись, известная в списке конца XV века, и посвященная большей частью местным событиям.
Период с 1447—1469 годов в своем наиболее полном виде представлен в «Летописи Авраамки», первая часть которой закончена 1469 годом, и вторая, составленная в 1495 году. Хотя в 1478 году Новгородская республика и лишилась своей независимости, летописание в Новгороде продолжилось до XVI—XVII веков и даже позднее. Было составлено еще несколько летописей, а затем, в 1670—1680-е годы, оно было возрождено трудами патриарха Иоакима. К периоду 1690—1695 годов относится и Новгородская Забелинская летопись, изложение в ней доводится до 1679 года. Последняя Новгородская Погодинская летопись была составлена в 1680—1690-х годах. Интересно, что именно новгородские летописи конца XVII века от всех прочих отличаются систематическими ссылками на источники (вот даже как!) и определенной их критикой.
Продолжение следует…
Определение летописания как особого
вида исторических источников вызывает
довольно серьезные трудности. Прежде
всего это связано со сложным составом
летописей. Являясь сводами предшествующих
текстов, они могут включать хроникальные
записи событий за год (так называемые
погодные записи — термин явно неудачный,
но широко распространенный), документы
(международные договоры, частные и
публичные акты), самостоятельные
литературные произведения (различные
«повести», «слова», агиографические
материалы, сказания) или их фрагменты,
записи фольклорного материала. В то же
время начиная с работ А.А. Шахматова,
заложившего основы современного
летописеведения, каждый летописный
свод принято рассматривать как
самостоятельное цельное литературное
произведение, имеющее свой замысел,
структуру, идейную направленность.
Дополнительные сложности в терминологию
летописеведче-ских исследований вносит
обыденное употребление слов «летопись»
и «летописание». В древней Руси
летописанием могли называть,
например, новозаветную книгу Деяний
апостолов. Видимо, тогда под летописанием
понимали описание деяний как таковых,
а не обязательно точно датированные
записи о происходившем, расположенные
в хронологическом порядке. В современных
исторических и источниковедческих
исследованиях допускается также
использование этих терминов для
обозначения летописной традиции,
сложившейся на определенной территории
(галицко-волынское летописание,
летописание Москвы, летопись Твери,
новгородская летопись, ростовская
летопись и т. п.).
Традиционно летописями в широком
смысле называют исторические сочинения,
изложение в которых ведется строго по
годам и сопровождается хронографическими
(годовыми), часто календарными, а иногда
и хронометрическими (часовыми) датами.
По видовым признакам они близки
западноевропейским анналам (от лат.
annales libri — годовые сводки) и хроникам
(от греч. chranihos — относящийся ко времени).
В узком смысле слова летописями
принято называть реально дошедшие до
нас летописные тексты, сохранившиеся
в одном или нескольких сходных между
собой списках. Иногда небольшие по
объему летописи — чаще всего узкоместного
или хронологически ограниченного
характера — называют летописцами
(Рогожский летописец, Летописец начала
царств и т.п.). Впрочем, из-за неопределенности
понятия «небольшой (или, напротив,
большой) объем» их иногда могут
называть и летописями. Как правило же,
под летописью в исследованиях
подразумевается комплекс списков,
объединяемых в одну редакцию (скажем,
Лаврентьевская летопись, Ипатьевская
летопись). При этом считается, что в их
основе лежит общий предполагаемый
источник. Каждый список по-своему
передает предшествующий текст, в большей
или меньшей степени изменяя его (искажая
или, наоборот, исправляя).
Летописание велось на Руси с XI по XVII в.
Поздние русские летописи (XVI-XVII вв.)
существенно отличаются от летописей
предшествующего времени. Поэтому работа
с ними имеет свою специфику. В то время
летописание как особый жанр исторического
повествования угасало. Ему на смену
приходили иные виды исторических
источников: хронографы, Синопсис и т.
п. Период сосуществования этих видов
источников характеризуется своеобразным
размыванием видовых границ. Летописи
все больше приобретают черты
хронографического (точнее, граногра-фического)
изложения: повествование ведется по
«граням» — периодам правления царей
и великих князей. В свою очередь, поздние
хронографы могут включать в свой состав
летописные материалы (иногда целые
фрагменты летописей).
Еще в XIX в. было установлено, что практически
все сохранившиеся летописные тексты
являются компиляциями, сводами
предшествующих летописей. Согласно
Д.С. Лихачеву, «по отношению к летописи
свод более или менее гипотетический
памятник, т. е. памятник предполагаемый,
лежащий в основе его списков или других
предполагаемых же сводов»1.
Другими словами, свод — реконструкция
текста, легшего в основу всех летописных
списков данной редакции. Такой
предполагаемый исходный текст называется
протографом (от греч. protos первый + grapho
пишу). Иногда в основе текста списка
летописи лежит несколько протографов.
В таком случае принято говорить не о
редакции свода, а о редакции летописи
(редакции редакции). Историки и
литературоведы пришли к обоснованному
выводу, что зачастую существующие списки
представляют собой не просто своды, а
своды предшествующих летописных сводов.
Реконструкции текстов сводов — задача
сложная и трудоемкая (примерами могут
служить реконструкции Древнейшего
свода 1036/39 гг., Начального свода 1096/97
гг., I, II и III редакций Повести временных
лет, созданные А.А. Шахматовым; академическое
издание реконструкции текста Повести
временных лет, подготовленное Д.С.
Лихачевым). К ним прибегают для того,
чтобы прояснить состав и содержание
текста гипотетического свода. В основном
такие реконструкции имеют иллюстративное
значение. Вместе с тем известен случай
научной реконструкции М.Д. Присёлковым
Троицкой летописи, список которой погиб
во время московского пожара 1812 г.
Благодаря этой реконструкции Троицкий
список был вновь введен в научный оборот.
Реконструкции протографов допустимы,
как правило, на заключительной стадии
источниковедческого исследования,
поскольку позволяют конкретнее
представить результаты работы над
текстами летописных списков. Однако их
не принято использовать в качестве
исходного материала. В источниковедческой
практике исследователи в основном
пользуются реально дошедшими текстами
списков летописей. В случае необходимости
указываются разночтения того или другого
фрагмента текста, встречающиеся в иных
списках летописи этой редакции.
При работе с летописными материалами
следует помнить о неточности и условности
научной терминологии. Это связано, в
частности, с «отсутствием четких
границ и сложностью истории летописных
текстов», с «текучестью» летописных
текстов, допускающих «постепенные
переходы от текста к тексту без видимых
градаций памятников и редакций»2.
Следует различать, идет ли в исследовании
речь о летописи как об условной редакции
или о конкретном списке; не путать
реконструкции летописных протографов
с дошедшими до нас текстами списков и
т. д.
Уточнение летописеведческой терминологии
— одна из насущных задач летописного
источниковедения. До настоящего времени
«в изучении летописания употребление
терминов крайне неопределенно. Эта
неопределенность пока еще не только не
ослабевает, но растет. Предстоит ее
внимательное изучение в классических
работах по истории летописания (в первую
очередь в работах АЛ. Шахматова по
позднему летописанию), чтобы на основе
этого изучения в известной мере
стабилизировать терминологию». При
этом «всякое устранение неясности
терминологии должно основываться на
установлении самой этой неясности.
Невозможно условиться об употреблении
терминов, не выяснив прежде всего всех
оттенков их употребления в прошлом и
настоящем»3.
Одним из самых сложных в летописеведении
является понятие авторства. Ведь, как
уже отмечалось, почти все известные
летописи — результат работы нескольких
поколений летописцев. Уже поэтому само
представление об авторе (или составителе,
или редакторе) летописного текста
оказывается в значительной степени
условным. Каждый из них, прежде чем
приступить к описанию событий и процессов,
очевидцем или современником которых
он был, сначала переписывал один или
несколько предшествующих летописных
сводов, бывших в его распоряжении. Для
автора летописи критерием достоверности
его личных впечатлений было их соответствие
коллективному опыту общества. Отклонение
от такого социального стандарта
представлялось, видимо, как несущественное
(т. е. как не раскрывающее сущности
явления), а потому неистинное. В этом
отношении сама форма летописных сводов,
по замечанию Д.С. Лихачева, оказывалась
идеальным воплощением особого
исторического сознания их авторов.
По-иному обстояло дело, когда летописец
подходил к созданию оригинального,
«авторского» текста о современных
ему событиях, участником или очевидцем
которых он был либо о которых узнавал
от свидетелей. Здесь индивидуальный
опыт автора или его информаторов мог
вступать в противоречие с общественной
памятью. Однако этот явный парадокс
исчезал, когда в происходящем удавалось
различить черты высшего для христианского
сознания исторического опыта. Для
летописца Священная история — вневременная
и постоянно заново переживаемая в
реальных, «сегодняшних» событиях
ценность. Событие существенно для
летописца постольку, поскольку оно,
образно говоря, являлось со-Бытием.
Отсюда следовал и способ описания —
через прямое или опосредованное
цитирование авторитетных (чаще всего
сакральных) текстов. Аналогия с уже
известными событиями давала летописцу
типологию существенного. Именно поэтому
тексты источников, на которые опирался
летописец, являлись для него и его
современников семантическим фондом,
из которого оставалось выбрать готовые
клише для восприятия, описания и
одновременной оценки происходившего.
Судя по всему, индивидуальное творчество
затрагивало главным образом форму и в
гораздо меньшей степени содержание
летописного сообщения.
Работа с летописями начинается с чтения
и сличения всех списков данной редакции.
При этом фиксируются и объясняются все
разночтения. Следует помнить, что
разбивка на слова и расстановка знаков
препинания в публикациях летописей
-результат определенной интерпретации
текста исследователем (издателем). На
начальной стадии изучения летописей
исследователи исходили из того, что
встречающиеся в списках разночтения
являются следствием искажения исходного
текста при неоднократном переписывании.
Исходя из этого, например, А.Л. Шлецер
ставил задачу воссоздания «очищенного
Нестора». Попытка исправить накопившиеся
механические ошибки и переосмысления
летописного текста, однако, не увенчалась
успехом. В результате проделанной работы
сам А.Л. Шлецер убедился, что со временем
текст не только искажался, но и исправлялся
переписчиками и редакторами. Тем не
менее был доказан непервоначальный
вид, в котором до нас дошла Повесть
временных лет. Этим фактически был
поставлен вопрос о необходимости
реконструкции первоначального вида
летописного текста.
Осознание сводного, компилятивного
характера всех сохранившихся летописей
привело исследователей к выводу о том,
что принципиально возможна «расшивка»
сохранившихся летописных текстов на
тексты предшествующих сводов. Такая
задача была поставлена еще в середине
XIX в. Н.К. Бестужевым-Рюминым. Однако,
столкнувшись с тем, что реальные тексты
— «клубок текстов разного цвета и
качества», он не смог разработать
методику, которая позволяла бы выделить
отдельные «нити» и воссоздать
первоначальный вид предшествующих
текстов. Предложенный метод «расшивки»
летописных сводов на тексты, восходившие
к разным летописным центрам, не позволил
ему выполнить эту задачу. Однако уже на
этом этапе изучения летописей стало
ясно, что в сравнительно поздних их
списках XIV-XVI вв. довольно точно сохранились
тексты летописей предшествующих веков.
Было установлено, что каждый летописец
стремился максимально точно передать
текст предыдущего летописного свода,
который он использовал в своей работе.
Это давало достаточные основания, чтобы
продолжить работы по воссозданию текстов
летописей, не дошедших до нашего времени.
Накопленный опыт предшествующих
поколений исследователей древнерусского
летописания, а также использование
методов, разработанных зарубежными
источниковедами (в частности, при
изучении текстологии Священного
Писания), дали возможность в конце XIX в.
создать новую методику изучения
летописных текстов. Принципиально новые
подходы к анализу летописей применил
выдающийся литературовед и лингвист
А.А. Шахматов. Сопоставив все доступные
ему списки летописей, Шахматов выявил
разночтения и так называемые общие
места, присущие летописям. Анализ
обнаруженных разночтений, их классификация
дали возможность выявить списки, имеющие
совпадающие разночтения. Такая
предварительная работа позволила
исследователю сгруппировать списки по
редакциям и выдвинуть ряд взаимодополняющих
гипотез, объясняющих возникновение
разночтений. Предполагалось, что
разночтения, совпадающие в нескольких
списках, имеют общее происхождение, т.
е. восходят к общему протографу всех
этих списков. Сопоставление гипотетических
сводов позволило выявить ряд общих
черт, присущих некоторым из них. Так
были воссозданы предполагаемые исходные
тексты. При этом оказалось, что многие
фрагменты летописного изложения
заимствовались из очень ранних сводов,
что, в свою очередь, дало возможность
перейти к реконструкции древнейшего
русского летописания. Выводы А.А.
Шахматова получили полное подтверждение,
когда был найден Московский свод 1408 г.,
существование которого предсказал
великий ученый. В полном объеме путь,
который проделал А.А. Шахматов, стал
ясен лишь после публикации его учеником
М.Д. Присёлковым рабочих тетрадей своего
учителя4.
С тех пор вся история изучения летописания
делится на два периода: до-шахматовский
и современный. При этом считается, что
изучение истории каждой летописной
статьи в рамках данной летописи и
предшествующих ей сводов — до того
момента, когда она была включена в
летописный текст, исключает некритическое,
«потребительское» отношение к
летописному материалу. Непременным
условием научного изучения летописей
является установление личности самого
летописца, его политических, религиозных,
этических и прочих взглядов, симпатий
и антипатий, пристрастий и неприятий.
Одним из важнейших выводов А.А. Шахматова,
к которому он пришел в результате
систематического изучения летописных
сводов XIV-XVI вв., было заключение, что
«рукой летописца водили не отвлеченные
представления об истине, а мирские
страсти и политические интересы»5.
В советской историографии это положение
легло и основу изучения древнерусского
летописания.
Недостаток подхода, разработанного
Л.А. Шахматовым, заключается в том, что
критический анализ источника фактически
сводится к изучению истории его текста.
За пределами интересов исследователя
остается большой комплекс проблем,
связанных с историей значений и смыслов,
бытовавших в период создания того или
иного летописного свода. Соответственно
зачастую игнорируется та образная
система, которую использовал летописец
и которую хорошо понимали его читатели.
Результатом такого подхода становится
некритическое восприятие информации,
заключенной в подлинном, с точки зрения
историка, тексте летописной статьи. Тем
самым проблема достоверности текста
подменяется проблемой его подлинности.
С этим связан «наивно-исторический»
подход к восприятию летописных сведений,
их буквальное повторение в исторических
исследованиях. Когда современный
исследователь берет в руки древнерусскую
летопись, перед ним неизбежно должен
встать вопрос: насколько адекватно он
может воспринимать текст, созданный
тысячелетие назад? Естественно, чтобы
понять любое информационное сообщение,
необходимо знать язык, на котором оно
передается. Все, однако, не так просто,
как может показаться па первый взгляд.
Прежде всего нельзя быть уверенным, что
лингвистам удалось зафиксировать все
значения (с учетом временных изменений)
всех слов, встречающихся в древнерусских
источниках, Предположим, однако, что
все основные значения слов выявлены и
зафиксированы, а исследователь правильно
выбрал из них наиболее близкие «своему»
тексту. Этого еще недостаточно, чтобы
считать, будто текст понят. Существует
поистине неисчерпаемое число индивидуальных
смыслов, «окружающих» найденные
общепринятые значения. В таких
лексико-семантических полях и формируются
образы, которые пытается донести до нас
автор текста. Метафорические описания
этих образов и их взаимодействий
составляют собственно изучаемый текст,
Проблема «лишь» в том, чтобы понять
их смысл (точнее, смыслы). Поэтому
историка, как правило, не может
удовлетворить буквальный, лингвистически
точный перевод текста сам по себе. Он
не более чем одно из вспомогательных
средств для уяснения исторического
смысла источника. Дословные переводы,
выполненные профессиональными лингвистами
с соблюдением всех норм «русского
средневекового языка (и в этом их
заслуга), в результате дают мало понятный
текст, ибо смысл той исторической,
жизненной ситуации, которая обрисована
в источнике, от них ускользает»6.
Между тем без специального изучения
семантики лексем (далее, на первый
взгляд, знакомых исследователю), принятой
в момент создания летописи, толкование
ее текста затруднено: слова со временем
претерпевают в лоне языка сложные
специфические изменения. Ситуация
осложняется тем, что филологи-русисты
традиционно обращали недостаточно
внимания на анализ подобных изменений.
Перед нами — типичная герменевтическая
ситуация: непонимание «темного места»
в источнике (а часто таким «темным
местом» может быть весь текст источника)
сопрягается с кризисом доверия к прежним
способам истолкования языковых фактов.
Обозначить пути, которые позволят
преодолеть ее, истолковать текст возможно
близко к смыслу, вложенному в него
автором, найти слово, «которое
принадлежит самой вещи, так что сама
вещь обретает голос в этом слове»7,
— основная цель, которую должен ставить
перед собой автор исследования. В
подавляющем большинстве случаев историк
или литературовед исходит из неявной
предпосылки, будто психологические
механизмы остаются неизменными на
протяжении веков. «Иногда презумпция
тождества мышления летописца и
исследователя высказывается открыто.
Так, говоря о стимулах возникновения
новых жанров древнерусской литературы,
Д.С. Лихачев отмечает, что их не следует
связывать с особенностями мышления
создателей этих жанров. «Мне
представляется, — пишет он по этому
поводу, — что постановка вопроса об
особом характере средневекового мышления
вообще неправомерна: мышление у человека
во все века было в целом тем же»8.
Подобная точка зрения почти на столетие
отстает от современного уровня развития
исторической психологии. Еще в первые
десятилетия XX в. психологи, этнографы
и антропологи (прежде всего Л. Леви-Брюль,
а также его последователи и даже часть
критиков) пришли к выводу, что
психологические механизмы человека
представляют собой исторически изменчивую
величину. Причем эти изменения не
сводятся к количественному накоплению
единиц мышления. Речь идет о качественном
преобразовании самих мыслительных
процессов. В частности, установлено,
что индивидуальное мышление, так
называемый здравый смысл, по мере
развития общества постепенно освобождается
от коллективных представлений, другими
словами, мышление индивидуализируется.
При этом коллективные представления
на ранних этапах развития общества
существенно отличаются от современных
идей и понятий и не могут отождествляться
с ними. Для предшествующих обществ
характерна пера в силы, влияния, действия,
неприметные, неощутимые для чувств, но
тем не менее реальные. Такая вера может
не иметь, с современной точки зрения,
логических черт и свойств, но ощущаться
вполне логичной для своего времени. По
словам Л. Леви-Брюля, «первобытное
мышление обращает внимание исключительно
на мистические причины, действие которых
оно чувствует повсюду»9.
Важнейшее средство, при помощи которого
человек мыслит и — главное — излагает
свои мысли — язык. Наверное, поэтому
психологи напрямую связывают развитие
мышления с развитием языка. Сначала
слови предельно конкретны, употребляются
преимущественно в качестве имен
собственных. На втором этапе развития
языка словами обозначаются целые классы
явлений. В дальнейшем же слово превращается
в орудие или средство выработки понятий
и тем самым терминологизируется.
Древнерусские летописные тексты, судя
по всему, могут быть с полным основанием
отнесены ко второму из названных этапов
развития языка. Описания в них еще
нетерминологичны, но уже позволяют
типологизировать происходящее. Однако
степень обобщенности летописных описаний
меньше, чем в привычных для нас текстах;
они намного более конкретны, нежели
современные «протокольные» записи.
Конкретизация достигается, в частности,
опосредованным присвоением описываемым
людям, действиям, событиям дополнительных,
так сказать уточняющих, имен путем
использования в описаниях «цитат»
(чаще всего косвенных) из авторитетных
и — предположительно — хорошо известных
потенциальному читателю текстов (как
правило, сакральных).
Следовательно, не только наш образ мира
принципиально отличается от образа
мира летописца, но и способы описания
их различны. Понимание этого неизбежно
ставит проблему соотнесения не только
самих imagia mundorum, но и того, как они
отображаются в источнике. Большая
подчиненность индивидуальных представлений
летописца и самого текста «коллективному
бессознательному» заставляет в
качестве первоочередной, вспомогательной
задачи понимания ставить проблему
воссоздания «жизненного мира»
древней Руси в современных нам категориях
и понятиях. Такая реконструкция неизбежно
должна предшествовать попыткам понять
летописный текст, а тем более описаниям
исторического процесса как такового.
Ввиду расхождения понятийно-категориального
аппарата, в котором мы фиксируем наши
представления о внешнем и внутреннем
мире, с представлениями, бытовавшими
несколько столетий назад, она может
осуществляться лишь на конвенциональном,
метафорическом уровне. Само такое
описание, опирающееся на двойную
рефлексию, может быть лишь более или
менее приближенным образом, в чем-то
обязательно упрощенной моделью и никогда
не сольется с «тем» миром.
Дополнительные сложности адекватного
(насколько это вообще возможно) понимания
древнерусских произведений связаны с
тем, что в отечественной книжности
отсутствовали богословские, схоластические
традиции. Здесь «говорящее»
интеллектуальное меньшинство (не
имевшее, правда, университетского
образования) во многом напоминает
западноевропейское «молчаливое
большинство». Впечатление о его
мировосприятии молено составить в
основном по косвенным данным и по едва
ли не случайным проговоркам. Возникает
некоторый порочный круг в изучении
древнерусских летописей (в изучении
западноевропейских источников подобная
проблема тоже, видимо, существует, но
не приобретает такой остроты). С одной
стороны, правильно попять содержание
летописной информации можно лишь после
уяснения общего смысла летописи. С
другой, понять цель создания летописного
источника, его социальные функции и
основную идею молено, только выяснив,
о чем, собственно, говорит его автор (а
в явной форме он в этом признаваться
чаще всего не хочет).
Летописец, беседующий с нами, оказывается
в положении, когда исходные метафоры
подвергаются таким деформациям и
метаморфозам, что ассоциативные ряды,
рождающиеся в головах исследователей,
уводят их мысли сплошь и рядом совсем
не туда, куда собирался направлять автор
(составитель, редактор) летописи. В
лучшем случае исходный и конечный образы
связаны каким-то внешним сходством
(правда, часто по типу: Богородица — Мать
Сыра-Земля). При этом почти невозможно
установить, насколько далеки или близки
транслируемый образ и воспринимаемый
фантом: для этого в подавляющем большинстве
случаев отсутствуют объективные критерии
сравнения.
Древнерусские летописные тексты не так
элементарны, как может показаться при
первом приближении. Летописец часто
описывает событие столь «примитивно»,
что у современного читателя может
сложиться (и зачастую складывается)
впечатление, будто его собеседник «умом
прост и некнижен»; кажется, он —
непосредственный очевидец про исходящего,
бесхитростно описывающий только что
увиденное. Иногда современный ученый
воспринимает летопись так: «Летописец
и не пробует понять, что он пишет и
переписывает, и, похоже, одержим одной
мыслью -записывать все, как есть». При
этом подчеркивается: «цель летописца
не в том, чтобы изложить все последовательно,
а изложить все, ничем не жертвуя».
Якобы именно поэтому «летописец
внимателен ко всякому событию, коль
скоро то произошло. Фиксируются даже
годы, когда «ничего не было»: «Бысть
тишина»» 10.
Часто на таком ощущении «эффекта
присутствия автоpa» базируются
датировки этапов развития летописных
сводов, делаются далеко идущие выводы
об участии в летописании тех или иных
лиц, строятся предположения о политической
ориентации летописцев.
Стоит, однако, взглянуть на летописное
изложение чуть пристальнее — и «очевидец»
исчезает. Ему на смену приходит весьма
начитанный книжник, мастерски подбирающий
из множества известных ему произведений
«куски драгоценной смальты»
(Д.С.Лихачев), которые он складывает в
единое по замыслу и грандиозное по
масштабу мозаичное полотно летописи;
Вот один из множества примеров такого
рода:
Повесть временных лет
1. Володимер <…> помысли создати
церковь Пресвятыя Богородица <…> И
наченщю же здати, и яко сконча зижа,
украси ю иконами (с. 54)*.
2. Володимер видев церковь свершену,
вшед в ню и помолися Богу, глаголя:
«Господи, Боже! <…> Призри на церковь
Твою си, юже создах, недостойный раб
Твой, въ имя рожьшая Тя Матере Присиодевыя
Богородица. Аже кто помолиться в церкви
сей, то услыши молитву его молитвы ради
Пречистый Богородица» (с. 55).
3. …Володимер… постави церковь, и створи
праздник велик <…> Праздновав князь
дний 8, и възвращашеться Кыеву <…> и
ту пакы сотворяше праздник велик, сзывая
бещисленое множество народа. Видя же
люди хрестьяиы суща, радовашеся душею
и телом (с. 56).
Третья книга Царств
1. И вот, я [Соломон] намерен по строить
дом имени Господа, Бога моего <…> И
построил он храм и кончил его, и обшил
храм кедровыми досками (3 Цар. 5.5; 6.9).
2. Так совершена вся работа, которую
производил царь Соломон для храма
Господа <…> И стал Соломой пред
жертвенником Господним <…> и сказал;
Господи, Боже Израилев! <…> Небо и
небо небес не вмещают тебя, тем менее
сей храм, который я построил имени
Твоему. Но призри на молитву раба Твоего
<…> услышь молитву, которою будет
молиться раб Твой на месте сем (3 Цар.
7.51; 8.22-30)
3. И сделал Соломон в это время праздник,
и весь Израиль с ним <…> — семь дней
и еще семь дней, четырнадцать дней. В
восьмый день Соломон отпустил народ. И
благославили царя, и пошли в шатры свои,
радуясь и веселясь в сердце о всем
добром, что сделал Господь (3 Цар. 8.65-66).
* Здесь и далее ссылки на Повесть временных
лет даются по изданию: Повесть временных
лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц 2-е
изд., испр. и доп. СПб., 1996.
Этого примера достаточно, чтобы убедиться,
насколько «современным» и «простым»
может стать под пером летописца текст,
скомпилированный из фрагментов
произведений, созданных за несколько
сотен лет до того по совершенно другому
поводу. Отсутствие прямых текстуальных
совпадений — вряд ли сколько-нибудь
веское основание для отрицания близости
приведенных текстов. Здесь, видимо, речь
должна идти о принципиально ином уровне
текстологических параллелей, доказательство
которых должно быть достаточно строгим,
хотя и не основывающимся на буквальных
повторах.
В специальной литературе уже давно был
подвергнут критике так называемый
ассоцианизм. Сторонники этого направления
вслед за Тайлором и Спенсером полагают,
что «основным законом психологии
является закон ассоциации, т. е. связи,
устанавливаемой между элементами нашего
опыта на основе их смежности или
сходства», а потому «законы
человеческого духа… во все времена и
на всем земном шаре одни и те же»11.
Позиции ассоцианизма в литературе по
летописеведению по сей день почти не
поколебались. Исследователи продолжают
пытаться заставить летописца говорить
на незнакомом ему языке — несущественно,
на каком: веберовском, тойнбианском,
марксистском или каком-либо ином. Из-за
подобного подхода они теряют основную
часть информации, которой просто не
замечают, считая ее чем-то вроде
«орнаментальных заставок», а не
текстом как таковым.
Так, один из ведущих специалистов по
изучению древнерусского летописания
Д.С. Лихачев считает, что «летописец…
только внешне присоединял свои религиозные
толкования тех или иных событий к
деловому и в общем довольно реалистическому
рассказу», в этом просто «сказывался…
средневековый «этикет» писательского
ремесла». Из этого делается общий
вывод: «религиозные воззрения, таким
образом, не пронизывали собою всего
летописного изложения». Поскольку
же, по словам Д.С. Лихачева, «провиденциализм…
не является для него (летописца. -И. Д.)
следствием особенностей его мышления»,
становится очевидным, что «отвлеченные
построения христианской мысли»,
которые встречаются в летописных сводах,
нельзя толком использовать даже для
изучения мировоззрения автора той или
иной записи. Ведь «свой провиденциализм
летописец в значительной мерс получает
в готовом виде, а не доходит до него
сам»12.
Главное, однако, в другом. В результате
такого подхода исследователь чаще всего
не понимает даже того, что берет из
летописного текста. Понимание довольно
сложного и многоуровневого текста
сводится таким путем исключительно к
буквальным значениям. Сам текст
адаптируется (часто в виде научного
перевода или реконструкции) к возможностям
понимания современного исследователя.
Естественно, не следует думать, что
адекватное восприятие древнерусских
летописей и средневековых текстов
вообще принципиально невозможно, однако
это потребует от исследователя
дополнительных усилий.
Уже сама калибровка вопросов, определяющих
и фиксирующих уровень достигнутого
между летописцем и историком
взаимопонимания, — первый шаг в разрешении
остающегося не(до)понимания. Успешность
сокращения психолого-культурного
пространства, разделяющего «собеседников»,
во многом будет зависеть от того,
насколько точно сформулированы эти
вопросы, какую часть полей взаимодействия
исследователя и текста они охватывают.
Их обсуждение — необходимый важный этап
в выработке путей освоения летописных
(и прочих древнерусских) текстов.
Понимание информации, заключенной в
письменном источнике, прежде всего
зависит от того, насколько точно определил
исследователь цель его создания. И это
понятно: содержание и форма текста
напрямую связаны с тем, для чего он
создан. Замысел — основной фильтр. Сквозь
него автор (летописец) «просеивает»
всю информацию, которую он получает
извне. Этот замысел определяет набор и
порядок изложения известий в летописи,
Более того, от него в значительной
степени зависит внешняя форма изложения,
поскольку автор (составитель, редактор)
ориентируется на определенные литературные
параллели. При этом «литературный
этикет» превращается из чисто
«внешнего» приема изложения в
важный элемент проявления содержания
(если литературоведов интересует
преимущественно психологии литературной
формы, то историка — психология содержания
текста).
Таким образом, найденный замысел должен
позволить непротиворечиво объяснить:
1) причины, побуждавшие создавать новые
своды и продолжать начатое когда-то
изложение; 2) структуру летописного
повествования; 3) отбор материала,
подлежащего изложению; 4) форму его
подачи; 5) подбор источников, на которые
опирался летописец.
Путь выявления замысла — обратный: по
анализу содержания текстов, на которые
опирался летописец (и общих идей
произведений, которые он брал, за основу
изложения), по литературным формам,
встречающимся в летописи, следует
восстановить актуальное для летописца
и его потенциальных читателей содержание
летописных сообщений, свода в целом, а
уже на этом основании пытаться вычленить
базовую идею, вызвавшую к жизни данное
произведение.
1.1.1. Летописи как исторический источник и методы их изучения
Определение летописания как особого вида исторических источников вызывает серьезные трудности. Прежде всего это связано со сложным составом летописей. Будучи сводами предшествующих текстов, они могут включать ежегодные хроникальные записи, документы (международные договоры, частные и публичные акты), самостоятельные литературные произведения (повести, слова, агиографические материалы, сказания) или их фрагменты, записи фольклорного материала. В то же время каждый летописный свод принято рассматривать как цельное произведение, имеющее свой замысел, структуру, идейную направленность.
Дополнительные сложности вносит обыденное употребление слов «летопись» и «летописание». В Древней Руси под летописанием понимали повествования, расположенные в хронологическом порядке, но не обязательно точно датированные. В современных исследованиях так иногда называют местную летописную традицию (галицко-волынское летописание, летописание Москвы, летопись Твери, новгородская летопись, ростовская летопись и т. п.).
В широком смысле слова летописями называют исторические сочинения, изложение в которых ведется строго по годам и сопровождается хронографическими (годовыми), часто календарными, а иногда и хронометрическими (часовыми) датами. По видовым признакам они близки западноевропейским анналам (от лат. annales libri – «годовые сводки») и хроникам (от греч. chronikos – «относящийся ко времени»). В узком смысле летописями принято называть реально дошедшие до нас летописные тексты, сохранившиеся в одном или нескольких сходных между собой списках. Иногда небольшие по объему летописи – чаще всего сугубо местные или хронологически ограниченные – называют летописцами (Рогожский летописец, «Летописец начала царства» и т. п.). Впрочем, их могут называть и летописями. В источниковедческих исследованиях под летописью (Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись) обычно подразумевается комплекс списков, объединяемых в одну редакцию и имеющих общий исходный текст.
Летописание велось на Руси с XI в. по XVII в. Поздние русские летописи (XVI–XVII вв.) существенно отличаются от летописей предшествующих веков. В это время летописание как особый жанр исторического повествования угасает. Ему на смену приходят иные виды исторических источников: хронографы (точнее, гранографы), синопсис и т. п. При этом летописи все больше приобретают хронографические черты: повествование ведется по «граням» – периодам правления царей и великих князей. Поздние хронографы могут включать в свой состав летописные материалы.
Еще в XIX в. было установлено, что почти все летописи представляют собой своды и своды сводов предшествующих летописных текстов. В современной специальной литературе под сводом понимают реконструкцию текста, легшего в основу всех летописных списков данной редакции. Такой гипотетический исходный текст называют протографом (от греч. protos – «первый» и grapho – «пишу»). Иногда в основе текста списка летописи лежат несколько протографов. В таком случае принято говорить не о редакции свода, а о редакции летописи (редакции редакции).
Реконструкции текстов сводов – задача сложная и трудоемкая. К ним прибегают, чтобы прояснить состав и содержание текста гипотетического свода. Такие реконструкции имеют преимущественно иллюстративное значение. Реконструкции протографов допустимы, как правило, на заключительной стадии источниковедческого исследования, поскольку позволяют конкретнее представить результаты работы над текстами летописных списков. Однако их не принято использовать в качестве исходного материала. Своеобразным исключением выступает научная реконструкция М. Д. Приселковым Троицкой летописи, список которой погиб во время московского пожара 1812 г. Благодаря этой реконструкции Троицкий список был вновь введен в научный оборот.
В источниковедческой практике пользуются в основном реально дошедшими текстами списков летописей. В случае необходимости указываются разночтения, встречающиеся в иных списках летописи этой редакции.
При работе с летописными материалами следует помнить о неточности и условности научной терминологии. Поэтому необходимо различать, когда речь идет о летописи как условной редакции, а когда – о конкретном списке, не путать реконструкции летописных протографов с дошедшими до нас текстами списков и т. д.
Одно из самых сложных в летописеведении – понятие авторства. Практически каждая из известных летописей – результат работы нескольких поколений летописцев. Уже поэтому само представление об авторе (или составителе, или редакторе) летописного текста оказывается в значительной степени условным. Каждый из них, прежде чем приступить к описанию событий и процессов, очевидцем или современником которых он был, переписывал один или несколько предшествующих летописных сводов, бывших в его распоряжении. Когда же летописец подходил к созданию оригинального, авторского текста о современных ему событиях, участником или очевидцем которых он был либо о которых узнавал от свидетелей, он руководствовался высшим для христианского сознания историческим опытом, пытаясь различить в происходящем отображение Священной истории – вневременной и постоянно заново переживаемой в реальных событиях настоящего. Отсюда следовал и способ описания – через прямое или опосредованное цитирование сакральных текстов. Тексты источников, на которые опирался летописец, служили для него и его современников семантическим фондом, из которого выбирались готовые клише для описания и оценки происходящего.
Работа с летописями начинается с чтения и сличения всех списков данной редакции. При этом фиксируются и объясняются разночтения между ними. Следует помнить, что разбивка на слова и расстановка знаков препинания в публикациях летописей – результат определенной интерпретации текста исследователем (издателем).
Изучение истории летописного свода в целом и каждой летописной статьи – в рамках данной летописи и предшествующих ей сводов, до того момента, когда статья вошла в летописный текст, – исключает некритическое, потребительское отношение к летописному материалу.
Следующее важное условие научного изучения летописей – установление личности летописца, его политических, религиозных, этнических и прочих взглядов, симпатий и антипатий, пристрастий и неприятий.
Критический анализ источника должен также предусматривать историю бытовавших в тот период, когда создавался летописный свод, значений и смыслов образной системы, которая использовалась летописцем и хорошо понималась его читателями. Без этого восприятие информации, заключенной в подлинном тексте летописной статьи, становится некритическим, а проблема достоверности текста подменяется проблемой его подлинности. С этим связан так называемый наивно-исторический подход к восприятию летописных сведений, буквальное их повторение в исторических исследованиях.
Естественно, чтобы понять любое информационное сообщение, необходимо знать язык, на котором оно передается. Но этого еще недостаточно, чтобы считать, что текст понят. Историка не может удовлетворить буквальный, лингвистически точный перевод текста сам по себе. Он представляет собой лишь одно из вспомогательных средств для уяснения исторического смысла источника.
Древнерусские летописные тексты не так элементарны, как может показаться при первом приближении. Летописец, как правило, – весьма начитанный книжник, мастерски подбирающий из множества известных ему произведений фрагменты, подходящие по форме и содержанию, которые он складывает в единое по замыслу и грандиозное по масштабу мозаичное полотно летописи. Текст, скомпилированный летописцем из фрагментов произведений, созданных порой за несколько сот лет до него по совершенно другому поводу, может казаться современным и простым. Отсутствие прямых текстуальных совпадений в таких случаях вряд ли может рассматриваться как основание для отрицания близости текстов. Здесь, видимо, речь может идти о принципиально ином уровне текстологических параллелей, доказательство которых должно быть достаточно строгим, хотя и не основывающимся на буквальных повторах.
Один из самых сложных и спорных вопросов истории летописания – проблема мировоззрения древнерусских летописцев. В советской историографии было распространено мнение о том, что летописные сведения довольно реалистичны и по большей части протокольно точны, а религиозный момент в них выполнял этикетную роль, был чисто внешней данью требованиям времени и жанра. Поэтому, как полагали многие исследователи, церковная риторика, которая в изобилии встречается в летописных сводах, не может использоваться даже для изучения мировоззрения автора той или иной записи.
При таком подходе понимание довольно сложного и многоуровневого текста сводится исключительно к буквальным значениям, а текст адаптируется (часто в виде научного перевода или реконструкции) к возможностям понимания современного ученого.
Исследования последних лет позволяют по-новому поставить проблему осмысления летописных текстов. Понимание информации, заключенной в письменном источнике, прежде всего зависит от того, насколько точно определил исследователь цель его создания. Содержание и форма текста напрямую связаны с тем, зачем он создан. Замысел – основной фильтр, который позволяет автору отобрать необходимую для повествования информацию. Именно замысел определяет набор и порядок изложения известий в летописи. Он в значительной степени определяет также форму изложения, поскольку ориентирует автора (составителя, редактора) на определенные литературные параллели.
Таким образом, замысел позволяет объяснить: 1) причины, побуждающие создавать новые своды и продолжать начатое когда-то изложение; 2) структуру летописного повествования; 3) отбор материала, подлежащего изложению; 4) форму его подачи; 5) подбор источников, на которые опирался летописец.
Установление замысла любого (в том числе и летописного) произведения – довольно сложная процедура. Он выявляется на основании анализа содержания текстов, на которые опирался летописец (и общих идей произведений, которые он брал за основу изложения), литературных форм, встречающихся в летописи. Сначала следует восстановить актуальное для летописца и его потенциальных читателей содержание летописных сообщений, свода в целом, а уже на этом основании пытаться вычленить базовую идею, вызвавшую к жизни данное произведение.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
«Салическая правда» — источник для изучения общественного строя франков
«Салическая правда» — источник для изучения общественного строя франков
Важнейшим источником для изучения общественного строя франков (преимущественно Северной Галлии) в меровингский период является одна из наиболее известных варварских правд—«Салическая правда»
Договор Авраама — исторический источник?
Договор Авраама — исторический источник?
Чтобы понять, почему хетты в конце XIX века вызвали в Англии, да и не только в Англии, такую сенсацию и почему об их открывателях писали то как о высоко уважаемых ученых, то как о шарлатанах, необходимо вспомнить, что тогда вообще было
2. МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ Методы изучения истории:
2. МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ Методы изучения истории:
1) хронологический – состоит в том, что явления истории изучаются строго во временном (хронологическом) порядке. Применяется при составлении хроник событий, биографий;2) хронологически-проблемный –
Поэмы Гомера как исторический источник
Поэмы Гомера как исторический источник
«Одиссея» и «Илиада» относятся к важнейшим и долгое время единственным источникам информации о периоде, который последовал в греческой истории за микенской эпохой. Однако кроме самого содержания этих произведений ученых уже
Глава 2. Исследователь и исторический источник
Глава 2. Исследователь и исторический источник
2. Историю пишут историки
История представляет собой сокровищницу опыта, накопленного предыдущими поколениями. Исторические знания возникли в глубокой древности, передавались в устной форме, получили отражение в
Глава 2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИ КНИГИ
Глава 2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИ КНИГИ
2.1. ВСЕОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И ИСТОРИЯ КНИГИ
Наука со всеми своими атрибутами — системой доказательств, внутренней соподчиненностью, внешними связями — оформилась в самостоятельный род человеческой деятельности
Письма как источник для изучения «Украинской Национальной Революции»
Письма как источник для изучения «Украинской Национальной Революции»
Письма, написанные после того, как немцы арестовали Бандеру и Стецько были, вероятно, наименее жесткой мерой, благодаря которой ОУН-б пыталась спасти свою революцию и улучшить свои отношения с
§ 1. Методы исторического изучения
§ 1. Методы исторического изучения
В предшествующей части я попытался изложить общую теорию исторического знания; я рассмотрел, каким образом обосновывается та точка зрения, с которой оно строится, и изучение какого-либо объекта становится историческим; я также выяснил,
§ 2. Методы исторического изучения в современной литературе
§ 2. Методы исторического изучения в современной литературе
В общем очерке развития методологии истории я уже указал на главнейшие периоды, которые можно различать в нем, и на важнейшие из сочинений, авторы которых частью затрагивали теорию исторического познания,
1.2. Исторический факт, исторический источник и историческое знание (подготовка эссе в жанре научной полемики)
1.2. Исторический факт, исторический источник и историческое знание (подготовка эссе в жанре научной полемики)
Данное задание предполагает написание эссе в рамках проблемного поля «Исторический факт, исторический источник и историческое знание». По условиям задания
2.10. Художественный образ как исторический источник
2.10. Художественный образ как исторический источник
Задание предполагает поэтапный анализ произведения искусства и воплощенного в нем художественного образа в качестве исторического источника (ответ о выполнении задания должен включить все перечисленные ниже
1.3.1. Актовый материал как исторический источник и методы его изучения. Общая характеристика актового материала
1.3.1. Актовый материал как исторический источник и методы его изучения. Общая характеристика актового материала
Древнерусские акты представляют собой обширный комплекс источников. По подсчетам В. А. Кучкина, до нашего времени дошли всего восемь актов XII в., 15 актов
Летопись
-
Ле́топись (или летописа́ние) — исторический жанр, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами: «в лѣто …» (то есть «в году …»), отсюда название — летопись. В Византии аналоги летописи назывались хрониками, в Западной Европе в Средние века анналами и хрониками.
Русские летописи сохранились в большом количестве так называемых списков XIV—XVIII веков. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. Списки эти по месту составления или по месту изображаемых событий исключительно или преимущественно делятся на разряды (первоначальная киевская, новгородские, псковские и т. д.). Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на изводы (редакции). Так, можно сказать: Летопись первоначальная южного извода (список Ипатьевский и с ним сходные), Летопись первоначальная суздальского извода (список Лаврентьевский и с ним сходные).
Такие различия в списках наводят на мысль, что летописи — это сборники, и что их первоначальные источники не дошли до нас. Мысль эта, впервые высказанная П. М. Строевым, ныне составляет общее мнение. Существование в отдельном виде многих подробных летописных сказаний, а также возможность указать на то, что в одном и том же рассказе ясно обозначаются сшивки из разных источников (необъективность преимущественно проявляется в сочувствии то к одной, то к другой из противоборствующих сторон) ещё более подтверждают это мнение.
Наиболее древние русские летописи — монаха Лаврентия (Лаврентьевская летопись, судя по приписке − 1377 г.), и Ипатьевская XV века (по названию Ипатьевского монастыря под Костромой, где она хранилась); но в основе их более древний свод начала XII века. Свод этот, известный под именем «Повести временных лет» является первой Киевской летописью.
Летописи велись во многих городах. Новгородские (харатейный синодальный список XIV века, Софийский) отличаются сжатостью слога. Псковские — живо изображают общественную жизнь, южнорусские — литературные, местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в московскую эпоху русской истории (Воскресенская и Никоновская Летопись). Так называемая «царственная книга» касается правления Ивана Грозного. Затем Летописи получают официальный характер и понемногу обращаются частью в разрядные книги, частью в «Сказания» и записки отдельных лиц.
В XVII столетии появились и получили широкое распространение частные летописи. Среди создателей таких летописей можно назвать земского дьячка Благовещенского погоста (р. Вага) Аверкия.
Существовали и литовские (белорусские) летописи, летописи Молдавского княжества. Казацкие летописи касаются, главным образом, эпохи Богдана Хмельницкого. Летописание велось также в Сибири (Бурятские летописи, Сибирские летописи), Башкирии (Башкирское шежере).
Источник: Википедия
Связанные понятия
Русские летописи — летописи Руси, памятники древнерусской литературы. Основной письменный источник по истории России и других восточнославянских земель допетровского времени.
Русь (др.-рус. рѹсь, рѹсьскаѧ зємлѧ, др.-сканд. Garðaríki, ср.-греч. Ῥωσία, лат. Russia, Rossia, Ruthenia) — обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, историческое название восточнославянских земель. Возникшее на этих землях влиятельное Древнерусское государство, политический расцвет которого пришёлся на X—XI века, стало основой для формирования единой древнерусской народности, языка и культуры. В 988 году произошло крещение Руси по восточной христианской традиции. Дробление Руси на удельные…
«Степе́нная кни́га» — один из крупнейших памятников русской исторической литературы XVI века, повествующий о русской истории с древнейших времён до 1560-х гг. Она вобрала в себя значительное число произведений древнерусской книжности, иногда частично, а иногда даже полностью. Также она содержит ряд уникальных известий, достоверность которых не выяснена.
«Список русских городов дальних и ближних» — принятое в исторической науке название особой статьи-приложения географического характера, помещаемой в русских летописях и рукописных сборниках XV—XVII веков и начинающейся обычно словами «А се имена всем градом рускым далним и ближним».
Псковские летописи — летописные своды XIV—XVII вв., содержащие обширный материал по истории Псковской земли, Новгорода, Балтии и Москвы.
Упоминания в литературе
Первым и самым важным из них является «Повесть временных лет», которая охватывает период с древнейших времен до второго десятилетия XII в. Она сохранилась в составе позднейших летописей XIV–XVI вв. Еще в 30-х годах XIX в. стало ясно, что сама «Повесть» является продолжением более ранних летописных произведений. Анализ текста Повести показал, что в ее основе лежат более ранние летописи: так называемые «Начальный свод» (1096–1099), «Свод Никона» (1073) и, наконец, предшествовавший им «Древнейший свод» (1037–1039), или появившееся тогда же некое сюжетное повествование о начальной истории («Повесть о начале Русской земли», или «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси», или какое-то другое сказание). Важно отметить, что до «Свода Никона» текст летописи не был разбит на годовые статьи. Даты ранних событий были проставлены «задним числом» только в 70-х гг. XI в. Основания, на которых была проделана эта работа, нам не известны (как, впрочем, точно не известны и системы счета времени, которыми пользовались первые летописцы). Другими словами, большинство дат древнерусской истории носит условный характер и без специальной проверки (если это вообще возможно) приниматься не могут.
НЕСТОР И СИЛЬВЕСТР. Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и к Начальной летописи и к летописцу Нестору. Так называемая Начальная летопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственным ему спискам, есть летописный свод, а не подлинная летопись киево-печерского инока. Эта Киево-Печерская летопись не дошла до нас в подлинном виде, а, частью сокращенная, частью дополненная вставками, вошла в начальный летописный свод как его последняя и главная часть. Значит, нельзя сказать ни того, что Сильвестр был начальным киевским летописцем, ни того, что Нестор составил читаемую нами древнейшую летопись, т. е. начальный летописный свод: Нестор был составителем древнейшей киевской летописи, не дошедшей до нас в подлинном виде, а Сильвестр – составителем начального летописного свода, который не есть древнейшая киевская летопись; он был и редактором вошедших в состав свода устных народных преданий и письменных повествований, в том числе и самой Нестеровой летописи
Практически все, что написано в учебниках истории о начальном периоде древней Руси и что мы, соответственно, изучали как нашу историю, перекочевало в них из «Повести временных лет» (далее в тексте используется общепринятая аббревиатура ПВЛ), которая почему-то считается летописью. Во всех энциклопедиях, включая самую актуальную и демократичную – Википедию, – ПВЛ представлена как «наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века». Часто ПВЛ даже называют Первоначальной летописью. Словно никого не смущает слово «повесть» в ее заглавии. Между тем, в русском языке времени написания ПВЛ уже существовало слово «летопись» как калька с греческого хронограф, но тем не менее ее авторы назвали свое произведение повестью, прямо указывая на его беллетристический характер.
Как указывает М.Д. Приселков, представлять которого здесь не требуется, в конце XV века состоялось первое «постордынское» переписывание российской истории, точнее, русских летописей: «Гибель Византии (1453 год. – К.П.) и свержение татарского ига резко сказываются на летописных текстах той поры, так как Москва начинает переработку летописных материалов в духе торжествующего московского единодержавия, предназначая уже теперь это чтение для политического воспитания подданных. Переработка эта, любопытная для характеристики политических взглядов и вкусов своего времени, но гибельная для точности передачи старых летописных текстов, захватывает не только московское великокняжеское летописание, но и летописание всех других феодальных центров. Нет никакого сомнения, что при поглощении Москвою того или иного княжества в числе прочих унизительных подробностей этого поглощения, как срытие крепостей, увоз в Москву исторических и культовых ценностей, было пресечение местного летописания как признака самостоятельной политической жизни и уничтожение официальных экземпляров этого летописания. Только так можно себе объяснить, что, несмотря на значительное число летописных центров древности, одна Москва теперь предстоит перед нами в своем официальном летописании, а все прочие местные летописцы сохранились до нас или в составе московских сводов, или в частных списках, причем только в исключительных случаях не прошедших московской обработки» («История русского летописания XI–XV вв.»).
Еще одной древнейшей летописью является Новгородская I, дошедшая в двух изводах. Старший представлен пергаменным списком ХIII—ХIV вв., хранящимся ныне в ГИМе. В нем утрачены первые 16 тетрадей о событиях до 1016 г. и одна тетрадь с описанием событий конца ХIII в. Исследователи полагают, что Синодальный список был составлен в конце ХIII в. местным новгородским духовенством в период существования Новгородской феодальной республики. Потом он был продолжен до середины ХIV в.[21]
Связанные понятия (продолжение)
Берестяны́е гра́моты — письма и записи на коре берёзы, памятники письменности Древней Руси XI—XV вв. Берестяные грамоты представляют первостепенный интерес как источники по истории общества и повседневной жизни средневековых людей, а также по истории восточнославянских языков. Берестяная письменность известна также ряду других культур народов мира.
«Поуче́ние Влади́мира Монома́ха» (в некоторых источниках — «Поучение Владимира Всеволодовича», «Завещание Владимира Мономаха детям», «Поучение детям») — литературный памятник XII века, написанный великим князем киевским Владимиром Мономахом. Это произведение называют первой светской проповедью.
Призвание варягов — легендарное призвание славянскими племенами ильменских словен и кривичей и финно-угорскими племенами чуди, мери и веси варягов во главе с Рюриком и его братьями Синеусом и Трувором на княжение в Ладогу или Новгород и другие города в 862 году.
Спи́сок (от спи́сывать) — списанный откуда-либо текст, а также документ, содержащий такой текст. В текстологии Нового времени списком называют документ, созданный в результате рукописного или машинописного воспроизведения текста первоначального документа (произведения, протографа данного списка), если воспроизведение осуществлено не автором первоначального документа, а другим лицом, в отличие от автографа (текста, принадлежащего руке автора первоначального документа). В текстологии древних и средневековых…
Повесть о разорении Рязани Батыем — произведение древнерусской литературы. Посвящено взятию Рязани монголо-татарами в декабре 1237 года. Сохранилось в списках, самые старшие из которых датируются концом XVI века. В трёх древнейших списках отражены три разновидности текста (по классификации Д. С. Лихачева).
Сино́псис Ки́евский («Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа») — компилятивный обзор истории Юго-Западной Руси, составленный во второй половине XVII столетия и изданный впервые в 1674 году в типографии Киево-Печерской лавры, в последний раз в Киеве в 1861 году. Автором предположительно являлся архимандрит лавры Иннокентий Гизель. В XVIII веке «Синопсис» был самым распространённым историческим сочинением в России. Традиционно считается одной из важных вех в формировании концепции…
Подробнее: Киевский синопсис
По́лное собра́ние ру́сских ле́тописей (общепринятое сокращение ПСРЛ) — основополагающая книжная серия для изучения истории древней и средневековой Руси.
«Сказание о князьях Владимирских» — памятник русской литературы XVI века, использовавшийся в политических целях. «Сказание» излагает легенду о происхождении великих князей от брата римского императора Августа по имени Прус. По сказанию, Прус был родственником Рюрика, а Владимир Мономах получил царские регалии (в т.ч. Шапка Мономаха) от византийского императора Константина Мономаха.
Русские княжества (XII—XVI веков) — государственные образования исторической Руси в пределах современных государств Россия, Украина, Белоруссия и Польша, а также (на окраинных землях) современных Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии и Финляндии. Возглавлялись князьями из династий Рюриковичей и Гедиминовичей. Образовались после распада Киевской Руси на отдельные княжества. Период существования отдельных русских княжеств иногда называют термином Удельная Русь. В рамках марксистской теории он описывается…
Летописец великих князей литовских — старейшее известное летописное произведение из числа белорусско-литовских летописей. В литовской историографии известна как первая редакция Литовской хроники. Описывает политическую историю Великого княжества Литовского в период от смерти Гедимина в 1341 году до конца XIV века. «Летописец…» написан западнорусским языком неизвестным автором в конце 1420-х годов в Смоленске. Впервые опубликован в 1823 году Игнатием Даниловичем в «Dziennik Wilenski».
Каза́нская исто́рия (также Исто́рия о Каза́нском ца́рстве, Каза́нский летопи́сец) — историческая повесть, созданная в 1564—1566 гг. (по другой версии, между 1626 и 1640 гг.) и рассказывающая о завоевании Казани Иваном Грозным в 1552 году.
Московское государство — название, которым в XVI—XVII веках обозначалась территория Великого княжества Московского внутри Российского царства. Параллельно шёл процесс синонимизации этого названия с Россией в целом, продлившийся до переноса столицы в Санкт-Петербург и провозглашения Российской империи в начале XVIII века. В историографии XIX—XXI веков — одно из названий Русского централизованного государства конца XV — начала XVIII веков.
Су́здальское княжество — территориально-административное образование времён феодальной раздробленности средневековой Руси с центром в городе Суздаль.
Зале́сская земля́, или Зале́сье (в современных источниках также Залесская Русь и Залесская Украина) — средневековое название территории, употреблявшееся в конце XIV — начале XV века для обозначения русских земель, располагавшихся в Волго-Окском междуречье. Согласно «Списку русских городов дальних и ближних», Залесская земля включала в себя 55 городов и поселений, расположенных в следующих областях…
Подробнее: Залесье
Договоры Руси с Византией — первые известные международные договоры Древней Руси, заключённые в 907 (факт существования соглашения сомнителен), 911, 944, 971, 1043 годы. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведённые с греческого языка на старославянский и дошедшие в составе «Повести временных лет», куда они были включены в начале XII века. Самые ранние письменные источники русского права; содержат нормы Закона Русского.
Прото́граф (от др.-греч. πρώτος — «первый» + γράφω — «пишу»), реже антигра́ф (от др.-греч. ἀντί — против + γράφω — «пишу») — документ, рукопись или машинописный текст, который лёг в основу более поздних списков, редакций, ближайший по тексту оригинал одного списка или группы списков.
Ру́сское (централизо́ванное) госуда́рство — государственное образование конца XV — начала XVIII веков, сложившееся на Руси в эпоху правления московского князя Ивана Великого. Унаследовав от своих предшественников претензионный титул «государь всея Руси», Иван Великий значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по собиранию русских земель и преодолению монголо-татарского ига. В результате его 43-летнего правления в Восточной Европе на месте разрозненных феодальных княжеств…
Уде́льные кня́жества (уде́лы) (от делить) — территории (земли) на Руси, в XII—XVI веках, находившиеся во владении отдельных князей.
Подробнее: Удельное княжество
Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти — казацкая летопись, написанная на староукраинском языке, один из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины. Написана очевидцем событий, выходцем из старшины Войска Запорожского. По заключению профессора Владимира Антоновича — первая казацкая летопись, отличающаяся полнотой и живостью рассказа, а также достоверностью.
Дружи́на — княжеское войско. Дружина являлась таким же необходимым элементом в древнерусском обществе, как и князь. Князь нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего порядка, так и для обороны от внешних врагов. Дружинники были реальной военной силой, всегда готовой к бою, а также советниками князя.
Дюденева рать (также Дюденёва) — принятое в русской историографии название похода ордынского полководца Тудана (в русских летописях он именуется Дюдень), брата хана Токты, на Северо-Восточную Русь в 1293 году (лето-осень), в ходе которого было захвачено и разорено 14 русских городов.
Новый летописец («Книга глаголемая Новый летописец») — памятник позднего русского летописания, который охватывает события со времени окончания царствования Ивана IV до 1630 г. Является важным источником по истории Смутного времени. В произведении ярко прослеживается публицистическое начало. Основной его целью было доказать право Романовых на престол.
«Великая хроника» (зап.-русск. Летопис, то ест Кройника великая з розных многих кройникаров диалектом русским написана) — белорусско-украинский хронограф эпохи барокко, своеобразная историческая энциклопедия своего времени, первая серьёзная попытка изложения мировой истории на старобелоруском языке. Составлена в первой половине XVII века. Место возникновения точно неизвестно.
Полоча́не, Западные кривичи или Полоцкие кривичи — группа кривичей, населявшая территорию современной Витебской и север Минской области. На территории расселения полочан сформировалось Полоцкое княжество.
Древнерусский фольклор — устное народное творчество древнерусского народа времён Киевской Руси. О разнообразии фольклора свидетельствуют многочисленные песни, былины и сказки.
Ты́сяцкий — должностное лицо княжеской администрации в городах Средневековой Руси.
Славе́нский конец — один из пяти концов (районов) древнего Новгорода. В раннее время — один из трёх, с Неревским и Людиным, древнейших концов, на основе которых в последующем сформировался город.
Государь всея Руси (первоначально господарь всея Руси) — титул московских великих князей и российских царей.
Поса́дник — глава города, «посаженный» (назначенный) князем (первоначально, затем вечем), в землях, входивших в состав Древнерусского государства. Посадник подчинялся народному вече и контролировал власть князя, ведал посадским войском, охраной правопорядка, судом, подписанием дипломатических договоров.
Служилые князья, служебные князья, подручники — в средневековой Руси класс князей, находящихся на службе у владетельных князей. Одна часть их была безземельными, обычно насильственным путём лишившаяся земельных владений (с X века). Вторая часть сама была мелкими вотчинниками, вынужденными прибегать к покровительству великих князей Московских и Литовских (с XIV века), после чего сохранявшими в своих руках суд, управление и наследственное владение. Известия о служилых князьях встречаются с середины…
Подробнее: Служилый князь
Баска́к (тюркск.) — представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщик налогов. С тюркским термином «баскак» связаны и, вероятно, тождественны ему монгольский даругачи (даруга) и персидский шихнэ.
Ве́че (общеславянское; от славянского вѣтъ — совет) — народное собрание в древней и средневековой Руси — и во всех народах славянского происхождения, до образования государственной власти раннефеодального общества — для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой демократии на территории славянских государств.
Древнерусские города — постоянные поселения Древней Руси, отличавшиеся по ряду характеристик от деревенских поселений. В древнерусском словоупотреблении городами являлись любые укреплённые (огороженные) поселения, в том числе торгово-ремесленные центры, культовые центры, защитные крепости, княжеские резиденции. Остатками таких городов являются городища. В современном научном понимании определение древнерусских городов более узко. Их типичными атрибутами помимо наличия укреплений были дворы феодалов…
Лях, мн. ч. ля́хи (польск. Lędzianie) — слово в летописи Нестора, первоначально употреблявшееся для обозначения западнославянских племён — полян (поляков), лютичей, мазовшан и поморян.
Псковская республика (или также Псковская вечевая республика, Псковская феодальная республика, Псковское княжество, официальное — Псковское господарство, Псковская земля) — средневековое государственное образование на территории Руси со столицей в городе Пскове. С начала XI века до 1136 года управлялась киевскими наместниками, затем находилась в составе Новгородской республики, пользуясь широкой автономией. С 1348 года полностью независима. В 1510 году вошла в состав централизованного Русского государства…
Гри́дница (гридня) — в древнерусской архитектуре IX—XVII веков — большое помещение в княжеском дворце для дружинников.
Духовная грамота (Духовная, Духовная память, Завещание, Изустная запись, Изустная память) — юридический документ, Грамота, имевшая употребление в России с 1287 год по XVIII век, в которой содержались распоряжения и указания родственникам и близким человека на случай его смерти.
Ушкуйники — русские пираты. Летописи дают ушкуйникам имя поморов или волжан. Вольные люди, входившие в вооружённую дружину, снаряжавшуюся новгородскими купцами и боярами, разъезжавшую на ушкуях и занимавшуюся торговым промыслом и набегами на Волге и Каме; повольники (на Руси XIV—XV вв.), охраной приграничных территорий Великого Новгорода. Также новгородские ушкуйники промышляли на северных реках — в Новгородской и Вятской землях XIV—XV веках члены вооружённых дружин посадского войска новгородского…
Варя́ги (др.-сканд. Væringjar, греч. Βάραγγοι) — группа в составе населения Древней Руси, носящая этнический, профессиональный либо социальный характер. На Руси варягами называли выходцев из Скандинавии. Варяги известны как наёмные воины либо торговцы в Древнерусском государстве (IX—XII вв.) и Византии (XI—XIII вв.).
Ту́рово-Пи́нское кня́жество (Туровское княжество) — древнерусское княжество в X—XIV веках, расположенное в Полесье по среднему и нижнему течению Припяти. Бо́льшая часть лежала на территории, заселённой дреговичами, меньшая — древлянами. Главным городом княжества был Туров, упоминаемый в первый раз в летописи под 980 годом.
Предание — жанр фольклорной несказочной прозы, разрабатывающий историческую тематику в её народной трактовке. Его передают из поколения в поколение.
Чёрные клобуки́ («чёрные шапки», ср. тюрк. каракалпак «чёрный колпак») — общее название тюркских вассалов киевских князей, расселённых в Поросье, начиная с конца XI века. Как отмечает академик А. И. Фурсов, чёрные клобуки явились предвестниками казачества. По сути дела, они несли пограничную службу на обширной территории по течению Днепра, Стугны и Роси, занимаемая ими зона ответственности являлась своего рода буфером между кочевниками и Русью.
Протасий (? — после 1332 года) — боярин, московский тысяцкий, один из ближайших сподвижников Ивана I Калиты.
Упоминания в литературе (продолжение)
Известно, что хронология истории Руси IX–X веков в начальных летописях вызывает великое множество сомнений. Но в летописной хронологии есть и более надежный пласт – постоянно сопоставляемые с историей Руси даты византийской истории тех времен, которая, вполне понятно, излагалась в имевшихся в распоряжении русских летописцев византийских хрониках (некоторые из них были к XI веку уже переведены на церковно-славянский язык) с гораздо большей хронологической точностью, нежели история Руси (поскольку ее события IX–X вв. были известны летописцам XI – начала XII века только по устным преданиям). Из сопоставления с историей Византии и исходил М. Н. Тихомиров:
Так что труд Нестора – это, собственно, компиляция более ранних источников, летописных сводов 997, 1073 и 1093 годов. Но и сама «Повесть…» известна по более поздним спискам, наиболее старыми из которых являются Лаврентьевская летопись 1377 года (древнейшая из дошедших до наших дней в оригинале) и Ипатьевская летопись 20-х годов XV века…
Интересные и важные детали могут быть почерпнуты из Иоакимовской летописи, приписываемой первому новгородскому епископу Иоакиму, жившему в конце Х – начале ХI в. Сама летопись не сохранилась, но ее содержание довольно подробно передал В.Н. Татищев в четвертой главе «Истории Российской»[76]. С тех пор летопись стала частью корпуса древнерусских источников, хотя у определенной части историков и вызывала большие сомнения в своей подлинности. И, как совершенно справедливо отметил современный петербургский историк А.А. Хлевов, исследовавший Иоакимовскую летопись на диссертационном уровне, по мере развития критики источников она все более и более завоевывала «право на объективность и в наши дни является полноправным свидетельством, более того, свидетельством весьма информированным и содержащим, вероятно, ключи ко многим загадкам ранней русской истории»[77].
В XII в. к нашей летописи, говорящей и о других литовских племенах, присоединяется древнейшая польская хроника Мартина Галла, доводящая свой рассказ до 1113 г. В XIII в. о литовцах кроме наших летописей много говорят немецкие хроники и летописи. Немцы в лице рыцарей ордена меченосцев и Прусского ордена вступили в XIII в. в упорную и ожесточенную борьбу с литовскими племенами. Их дееписатели, естественно, поэтому должны были сообщать многое и о Литве. Эти сообщения выясняют не только географическое распространение Литвы и ее племенное деление, но также в большей или меньшей степени экономический, общественный и политический строй Литвы, а также и народный характер, как они сложились к тому времени. Важнейшие из этих сообщений находятся в «Chronicon Livoniae» Генриха Латыша, которая, по его словам, не содержит ничего, кроме виденного собственными глазами или слышанного от очевидцев (доходит до 1227 г.); в рифмованной «Ливонской хронике» («Die Livländische Reimschronik»), стихами передающей события Ливонии от 1227 до 1290 г.; в хронике Петра Дюсбургского конца XIII и первой четверти XIV столетия, которая наравне с Ипатьевскою летописью может служить основным источником при изучении древней литовской истории. Кроме того, сообщения от XIII в. вошли в хроники и летописи XIV и даже XV вв., которые пользовались не дошедшими до нас источниками XIII в. Из ливонских хроник XIV в. выдается в этом отношении «Chronicon Livoniae»
В большей мере привязано было к историческому контексту исследование выдающегося датского слависта А. Стендер-Петерсена «Варяжская сага как источник Несторовой хроники» (1934)[181]. В этой и последующих работах датский филолог обращал особое внимание, в частности, на мотив переселения трех братьев, характерный для скандинавского фольклора. Одновременно стремление отыскать скандинавские истоки летописных сюжетов, связанных со «сказаниями о первых русских князьях» (как называл начальные сюжеты летописи А. А. Шахматов), в том числе с варяжской легендой, в материале исландских саг вызвало достаточно суровую реакцию одного из основоположников отечественной скандинавистики Е. А. Рыдзевской: ее критическое исследование, подготовленное до Великой Отечественной войны, увидело свет лишь в 1978 г.[182] Рыдзевская, не поминая работ Стендер-Петерсена, отметила отсутствие прямых соответствий летописным текстам в скандинавском материале. При этом не учитывалось, однако, то обстоятельство, что вероятные фольклорные источники «сказаний о первых князьях» не были записанными или «каноническими» текстами. Сходство варяжской легенды, рассказа о смерти вещего Олега от коня, рассказа о расправе Ольги над древлянами и других с сюжетами скандинавских саг заслуживает дальнейшего изучения, каковое осуществляется коллективом скандинавистов под руководством Е. А. Мельниковой[183]. Ныне можно с полным основанием утверждать, что Восточная и Северная Европа в самых широких пределах– включая Англию – действительно были объединены тесными взаимосвязями в раннесредневековую эпоху: собственно, об этих связях свидетельствует сама летопись, в космографическом введении включающая англов (агнян) в число «варяжских» народов, а в последние годы появились и новые археологические свидетельства этнокультурного единства двух регионов[184]. Это делает перспективным и исследование общего древнего «эпического фонда», использованного в последующих историографических традициях XI–XIII вв.
Разумеется, вопрос о древнейших этапах летописания на Руси может решаться по-разному, но в любом случае часть Н1Лм до 6504 г. – это удобный текст для терминологического разбора, поскольку он чётко отделён от повествования о событиях XI в. и представлен одной группой списков, расходящихся между собой только в отдельных чтениях. Все упоминания слова дружина в этой части летописи анализируются далее каждое в соответствующем контексте, и предлагается, насколько это возможно, определение происхождения этого контекста согласно представлениям об истории начального летописания Шахматова и его последователей.
Вопрос, вынесенный в заглавие книги, – один из важнейших в отечественной историографии со времен Нестора. В «Повести временных лет» он находится в одном ряду с другим не менее важным для летописца вопросом о начале княжеского правления в Киеве. «Откуду есть пошла Руская земля, кто в Киевѣ нача перваѣ княжити?»[1] В Ипатьевской летописи, содержащей одну из редакций «Повести временных лет», слово «в Киеве» заменено на «в ней». То есть в Руской земле[2]. Разумеется, это не случайная замена, а смысловая. Для летописцев Киев и Руская земля были тождественными понятиями. Подтверждением этому являются, в частности, слова о Киеве, вложенные в уста князю Олегу: «Се буди мати градомъ русьскимъ», а также утверждение о полянах, которые «нынѣ зовомая Русь»[3].
Факты соответствуют действительности, русские летописи на самом деле повествуют о неудачном военном походе 1185 года. С языковой точки зрения эпос выделяется на фоне древнерусской литературы богатством лексики – многие слова используются только здесь и нигде более. С точки зрения содержания благодаря языческой образности, противоречащей христианскому духу других древнерусских текстов, «Слово» также занимает особое положение. Когда сочинялось это произведение, остается неясным. Для литературы позднего XII или XIII века «Слово» было бы уникальным явлением, и поскольку неизвестны ни предшествовавшие ему, ни продолжавшие его традицию аналогичные тексты, то тогда оно должно было бы возникнуть на пустом месте. Рукопись, которую в 1786 году (или в 1795?) забрал из ярославского монастыря граф Алексей Мусин-Пушкин, восходила якобы к XV или XVI столетию и, как считается, в 1812 году погибла во время московского пожара. Копия этой рукописи, внезапно появившаяся только в середине XIX века и выполненная предположительно для царицы Екатерины II (ум. 1796), скорее просто передает содержание, чем дословно воспроизводит текст погибшего памятника, и ее нельзя принимать в расчет в дискуссии о подлинности. При этом издание оригинальной рукописи 1800 года пестрит ошибками, так как издатели не были знакомы с древнерусским языком, шрифтом и правописанием.
Формирование объединяющего жанра летописи. История ранних русских летописных сводов. Редакции «Повести временных лет». Своеобразие и типы изображения исторических лиц в летописи. Композиция «Повести временных лет» и ее жанровый состав. Исторические повести и народные предания в тексте летописи. Формирование жанра воинской повести в составе «Повести временных лет». Язык и поэтические средства в летописи. Значение «Повести временных лет» как памятника истории, литературы и языка Киевской Руси.
Прежде всего, достаточно спорной фигурой остается сам инициатор обращения в Рим – Мисаил, который, как отмечает Г. Голенченко, в позднейших церковных списках нигде не называется киевским митрополитом[258]. Это утверждение, некогда энергично отстаиваемое Б. Бучинским[259], нуждается в определенных коррективах, поскольку в так называемом «Сборнике Ильи Кощаковского» – копиарии исторических произведений, созданном в начале XVIII в. в киевском Межигорском монастыре[260], -имеется перечень киевских митрополитов, среди которых под 1474 г. фигурирует Мисаил[261]. Б литературе эта запись до сих пор не анализировалась – хотя еще в XIX в. ее, по-видимому, использовали при реконструкции текста Киевской летописи, где упоминается антиминс из соборной церкви Успения Богородицы Пирогощей, положенный там при освящении алтаря «преосвещенным архиепископом и митрополитом киевским и всея Руси Мисаилом при великом короли Казимери… в лето 6901 [= 1393] индикта 6-го марта 30 дня»[262]. Анонимный автор статьи «Собор вместо собора: (К истории киевских соборов)»[263], напечатав рассказ Киевской летописи о восстановлении Успенской церкви, воспользовался двумя его списками – из «Сборника Ильи Кощаковского» и сборника семьи Морозов, со временем попавшего в коллекцию A.M. Лазаревского. Корректируя текст рассказа путем «сопоставления обеих рукописей», автор статьи исправил в процитированном фрагменте год (на 6982 [= 1474]) и индикт (на 7-й) – руководствуясь, очевидно, упомянутым перечнем митрополитов, поскольку в «Сборнике Кощаковского» нет сюжета об антиминсе. На самом же деле, как нам кажется, имеющуюся в списке Лазаревского дату ?SIIA следует исправить на ?БЦПА (= 1473 г.), которая согласуется с 6-м индиктом и представляется достоверной ввиду того, что предшественник Мисаила, Григорий Болгарин, умер в 1472 г.
Нельзя сказать, чтобы мне пришлось трудиться над материалами, совершенно нетронутыми. Были и прежде некоторые попытки, если не разработать, то, по крайней мере, собрать сырые материалы. Первая известная мне попытка в этом роде относится к концу прошлого и началу настоящего столетия. Сборник имеет такое заглавие: «Достопамятности к Российской истории, большей частью к Рязанской области надлежащие, выбранные из отысканных в Рязанской духовной консистории разных тетрадей и бумаг и собранные в виде летописи в 1793 и 1794 гг. по случаю присланного из св. правит, синода 1791 г. августа 31 дня к его преосвященству Симону, архиепископу рязанскому указа о присылке летописей в оный синод, а 1816 году вновь пересмотренная, исправленная и дополненная». Из каких же тетрадей и бумаг сделаны выписки для этих «Достопамятностей»? Главным образом, из «Родословца русских князей» и «Географического словаря», составленного Щекановым; а в последнем историческое обозрение Рязанского княжества основано на извлечениях из «Истории» Татищева и Никоновой Летописи. Гораздо важнее таких выписок встречающиеся в «Достопамятностях» сокращения и отрывки из разных грамот, жалованных и судных.
«Сборник летописей» представляет собой действительный сборник исторических сведений средних веков, выполненный различными летописцами по заданию самого визиря Рашид ад-Дина. Это свод огромных масштабов: от Западной Европы до Индии и Китая. Здесь в широком аспекте представлена история становления Чингисхана, его сподвижников и потомков. Поступившие к нему материалы Рашид ад-Дин по каким-то причинам не выверил и не отредактировал. Поэтому он содержит ряд нестыковок, прямые противоречия разбросаны по всему сборнику. Есть несоответствия и с «Сокровенным сказанием монголов».
Ученые работают над историей России, опираясь на разные типы источников. Для древнейшего периода это археологические находки и данные западноевропейских, византийских и восточных письменных источников, для Древнерусского периода – летописи, памятники законодательства, из которых наиболее значимы «Русская Правда» и берестяные грамоты, для Московского государства – те же летописи и законодательные памятники с добавлением актовых источников и делопроизводственных памятников. Начиная с XVIII в. растет количество как самих источников, так и их типов. Появляются периодические издания, мемуарная литература, частная переписка, географические источники, впечатления иностранных путешественников, данные статистики, кино-, фото- и фонодокументы. При работе со всеми типами источников ученым необходимо проводить критику источников, то есть установить обстоятельства их появления и степень ценности для исследовательских целей.
Древнерусские хожения распространялись в списках на протяжении долгого времени. Только в конце XVIII в. «Хожение Трифона Коробейникова» выходит отдельной книгой, в это же время издается сочинение Игнатия Смольнянина и «Во Иеруса лим хожение», входившее в состав Никоновской летописи. Более десяти хожений было напечатано в «Древней Российской вивлиофике» Н. И. Новикова. Издание древних паломнических сочинений продолжается в начале XIX в. Н. М. Карамзин в примечаниях к «Истории Государства Российского» использует выписки из хожений. В «Словаре историческом о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви» Е. А. Болховитинова дается оценка литературных трудов писателей-паломников: игумена Даниила, Степана Новгородца, Игнатия Смольнянина, Арсения Суханова, Мелетия Саровского, Василия Григоровича-Барского. В 1830-х гг. были обнаружены новые тексты хожений, в числе которых «Хожение в Царьград Антония Новгородского» (Добрыни Ядрейковича). Огромный вклад в изучение хожений внес И. П. Сахаров, который впервые издал собранные на то время «Путешествия русских людей»[32]. Эта книга, выдержавшая четыре издания, оставалась единственным сборником древнерусских хожений вплоть до 1984 г., когда вышло издание, подготовленное Н. И. Прокофьевым.
Содержание «Влесовой книги», ее язык (о чем можно судить хотя бы по тому отрывку, который приведен в статье В. Скурлатова и Н. Николаева) свидетельствуют, что перед нами явная подделка. Авторов, пытающихся доказать обратное, нисколько не спасают рассуждения о «совершенно неожиданной картине далекого прошлого славян». Во «Влесовой книге» речь идет о славянах-скотоводах, живших «за тысячу триста лет до Германриха» – за 13 столетий до готского вождя середины IV в. Германариха (то есть в начале I тыс. до н. э.). Ни автор «Повести временных лет» (начало XII в.), располагавший многими источниками, ни авторы первых повестей, летописей и предполагаемых летописных сводов конца X–XI в. не сообщают о славянских племенах и князьях даже V–X вв. таких сведений, какие содержит составленная якобы в конце IX в. «Влесова книга» о временах гораздо более отдаленных, отстоявших от ее «появления» почти на два тысячелетия! Не спасают В. Скурлатова и Н. Николаева и исторические параллели, связанные с характеристикой передвижений из Центральной Азии в Европу скотоводческих племен, среди которых, по их мнению, могли быть и славяне. Эту «оригинальную версию о степном центральноазиатском происхождении наших предков» авторы, со ссылкой на историков-«евразийцев», а также на итальянских археологов, ведущих раскопки в Пакистане, поддерживают, хотя давно доказано, что славяне задолго до этого (еще в III тыс. до н. э., во времена трипольской культуры) были земледельцами и автохтонами, то есть обитали в районе Среднего Поднепровья.
Гораздо обстоятельнее и подробнее описана последующая история Ростовского княжества, начиная от появления на мерянской территории славянского населения в IX–X вв. и кончая событиями XIV в. Уже ознакомление с пространными, раскрывающими содержание отдельных частей заглавиями II–V глав книги показывает, что автор постарался охватить своим вниманием буквально все стороны средневековой жизни и происходившие исторические процессы. С той или иной степенью подробности в хронологической последовательности рассмотрены пути и формы древнерусской колонизации, обстоятельства возникновения городов и распространения христианства, внутренняя и внешняя политика князей, этапы развития торговых и культурных связей, последствия монголо-татарского нашествия и многое другое. Без внимания не осталось, кажется, ни одно отмеченное в летописях событие или известное историческое лицо.
С этих слов начинается «Повесть временных лет» – древнейшая русская летопись, составленная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в первой половине XII века. Первая фраза этого важнейшего источника сведений по древнерусской истории начинается так: «Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля».
Новыми сведениями дополнялась и летопись. Окончание летописи как бы отодвигалось, продолжая дополняться новыми сведениями о новых событиях. По точному замечанию Д. С. Лихачева «летопись росла вместе с историей». Так же дополнялись хронографы, исторические проповеди. Разрастались сборники поучений…
В летопись проникли и такие сведения, которые не укладываются в концепцию киевского книжника. Опираясь на греческие хроники, он рассказывает о том, что Русская земля стала известна еще в правление императора ромеев Михаила. Согласно летописи, в 866 году (по греческим источникам в 860), русы напали на Константинополь. Эти русы связываются летописцем с киевскими князьями Аскольдом и Диром. Если это и в самом деле было так, получается, что Русская земля возникла, по меньшей мере, на четверть века раньше прихода Олега.
В одном фильме, снятом в 2012 г., ведущий обращается к хранительнице рукописи Лаврентьевской летописи за консультацией. Она, с благоговением переворачивая страницы, между прочим замечает: «А ведь к оригиналу за все мое долгое служение в музее так никто и не обращался». И на самом деле, все уже давно привыкли пользоваться вторичной литературой, то есть переведенной некогда на современный русский язык начальной частью летописи. Возможно, поэтому, чтобы приблизить любознательного читателя к исторической правде, в том же 2012 г. Лаврентьевскую летопись оцифруют, и ее электронная копия появится в открытом доступе в Интернете. И это, несомненно, большое событие: теперь можно, во-первых, сравнить оригинал текста летописи с ее переводом, а во-вторых, получить возможность сформировать собственное впечатление об авторе летописи, о тех или иных событиях, сказаниях, легендах и т. п.
Сейчас существует мнение (особенно оно распространено среди украинских националистов), что название Россия относительно новое, его ввёл в обиход император Пётр I, а в древности единственным названием государства было Русь. Однако это не так. Во многих древнерусских летописях название Россия употребляется как синоним названий Русия и Русь. Это хорошо видно из отрывка древнерусской летописи «Киевский синопсис», написанной монахами Киево-Печерской лавры, который был приведён в предыдущем параграфе, а также из полного названия этой летописи: «Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева, о житии Святого Благоверного Великого князя Киевского и всея России первейшего самодержца Владимира и о наследниках благочестивой державы его Российския». Приведу пример из другой летописи – «Хроники с летописцев стародавних», написанной игуменом киевского Михайловского монастыря Феодосием Сафоновичем: «По смерти князя киевского и всея Русии Игоря Рюриковича жена Игорева, княгиня Ольга, с сыном своим единым Святославом Киевское, Великого Новгорода и всея Росии княжение обрела».
К сочинениям «книжной учености» историки относят также фрагмент летописи, который переписчики XVII века иногда присоединяли к текстам повестей о начале Москвы, предваряя его своим примечанием: «Ин (то есть иной. – В. М.) летописец повествует». В этом фрагменте из неизвестного «иного» летописного свода говорится о том, что основателем Москвы был киевский князь Олег, прозванный Вещим.
Им принадлежат первые попытки введения в литературу точной хронологии. Самое видное место в этом отношении занимает Гелланик, воспользовавшийся списком жриц Геры Аргосской (?ρεοιδες) для хронологического распределения эллинской истории и мифологии. Конечно, начало списка было мифологическое: во главе его стояло имя Ио; но он нисходил до времени самого историка. Тот же историк впервые обработал для целей историко-литературных другой подобный список, καρνεονικαι, победителей на Карнейских состязаниях с ол. 26; по всей вероятности, с именами победителей внесены были в летопись выдающиеся факты из истории литературы. Подобного характера были, как можно предполагать, «Летописи лакедемонян» и «Летописи лампсакийцев» Харона.
Этническое значение слова «русь» устанавливается, таким образом, этимологически, по морфологической структуре слова, по его включению в соответствующий контекст в ПВЛ. Для летописца XII в. его этническое содержание не вызывало сомнений: он ставит русь в один ряд с другими скандинавскими народами: «Сице бо ся зваху тьи варязи русь, яко се друзии зъвутся свие, друзии же урмане»[421]. Однако в легенде о призвании варягов, как полагает большинство исследователей, частично отражающей реальность середины IX в., наиболее отчетливо проявляется и его социальное значение. Сопоставление двух вариантов легенды, сохранившихся в ПВЛ и в Новгородской I летописи (далее – НПЛ), недвусмысленно показывает отождествление понятий «русь» и «дружина». Текст ПВЛ: «И изъбрашася 3 братья с роды своими, пояша по собѣвсю русь, и придоша»[422]. В НПЛ текст звучит так: «Изъбрашася 3 брата с роды своими, и пояша со собою дружину многу и предивну, в приидоша к Новугороду»[423].
В предлагаемых читателю «Очерках истории средневекового Новгорода» основное внимание уделено возможностям археологического изучения проблемы, которая прежде изучалась на материалах летописей и немногочисленных письменных источников. В Великом Новгороде работает основанная в 1932 г. Артемием Владимировичем Арциховским экспедиция, отметившая в 2007 г. свое 75-летие. Главный ее успех состоит в открытии берестяных грамот XI–XV вв., число которых к концу полевого сезона 2007 г. достигло 961. Еще 41 грамота найдена в Старой Руссе и 19 в Торжке – древних новгородских городах. Если учесть, что до открытия берестяных грамот существовало только три аутентичных памятника гражданской истории, датируемых XI – первой половиной XIII вв. и что число берестяных грамот того же времени уже превысило 400 экземпляров, станет очевидным громадный потенциал вновь открытых текстов.
Составители Филаретовской летописи смогли использовать в своей работе основные принципы и приемы, освоенные отечественными учеными в этом жанре. Правда, мы оказались в неравном положении с предшественниками: прежде издания Летописей А. С. Пушкина или Л. Н. Толстого вышло несколько собраний их сочинений, а потом и полные, академические собрания сочинений, дополненные сводами посвященной им мемуаристики и десятками серьезных научных исследований. Например, после выхода пяти Полных собраний сочинений М. Ю. Лермонтова и Лермонтовской энциклопедии, после издания в 1964 г. В. А. Мануйловым «Летописи жизни и творчества М. Ю. Лермонтова», его ученик В. А. Захаров в 2003 г. издает новый, расширенный вариант лермонтовской Летописи. В нашем случае такого рода научная деятельность только разворачивается. Тем не менее, поскольку для более глубокого осмысления нашей отечественной истории и истории Церкви в XIX в. жизнь и деятельность свт. Филарета (Дроздова) предоставляют большой и важный материал, появление сводного и систематизированного собрания фактов его жизни видится необходимым делом.
Ле́топись (или летопи́сец) — это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами: «в лето …» (то есть «в году …»), отсюда название — летопись. В Византии аналоги летописи назывались хрониками, в Западной Европе в Средние века анналами и хрониками.
Летописи сохранились в большом количестве так называемых списков XIV—XVIII веков. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. Списки эти по месту составления или по месту изображаемых событий исключительно или преимущественно делятся на разряды (первоначальная киевская, новгородские, псковские и т. д.). Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на редакции (изводы). Так, можно сказать: Летопись первоначальная южного извода (список Ипатьевский и с ним сходные), Летопись первоначальная суздальского извода (список Лаврентьевский и с ним сходные).
Такие различия в списках наводят на мысль, что летописи — это сборники, и что их первоначальные источники не дошли до нас. Мысль эта, впервые высказанная П. М. Строевым, ныне составляет общее мнение. Существование в отдельном виде многих подробных летописных сказаний, а также возможность указать на то, что в одном и том же рассказе ясно обозначаются сшивки из разных источников (необъективность преимущественно проявляется в сочувствии то к одной, то к другой из противоборствующих сторон) ещё более подтверждают это мнение.
Русские летописи сохранились во многих списках; самые древние — монаха Лаврентия (Лаврентьевская летопись, судя по приписке − 1377 г.), и Ипатьевская XIV века (по названию Ипатьевского монастыря под Костромой, где она хранилась); но в основе их более древний свод начала XII века. Свод этот, известный под именем «Повести временных лет» является первой Киевской летописью.
Летописи велись во многих городах. Новгородские (харатейный синодальный список XIV века, Софийский) отличаются сжатостью слога. Псковские — живо рисуют обществ. жизнь, южнорусские — литературны, местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в московскую эпоху русской истории (Воскресенская и Никоновская Летопись). Так называемая «царственная книга» касается правления Ивана Грозного. Затем Летописи получают официальный характер и понемногу обращаются частью в разрядные книги, частью в «Сказания» и записки отдельных лиц.
Существовали и литовские (белорусские) летописи, летописи Молдавского княжества. Казацкие летописи касаются, главным образом, эпохи Богдана Хмельницкого. Летописание велось также в Сибири (Бурятские летописи, Сибирские летописи), Башкирии (Шажере).
Литература
- Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 1—31, СПБ. М. — Л., 1841—1968;
- Шахматов А. А., Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв., М. — Л., 1938;
- Насонов А. Н., История русского летописания XI — нач. XVIII вв., М., 1969;
- Лихачёв Д. С., Русские летописи и их культурно-историческое значение, М. — Л., 1947;
- Очерки истории исторической науки в СССР, т. 1, М., 1955.
- Поппэ А. А. А. Шахматов и спорные начала русского летописания //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 3 (33). С. 76-85.
- Конявская Е. Л. Проблема авторского самосознания в летописи // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2000. № 2. С. 65-75.
Источники
- Летописи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
40, С. 628-644
опубликовано: 18 июня 2020г.
- Л. XI-XIV вв.
- Л. XV в.
- Л. XVI-XVIII вв.
- Л. в Великом княжестве Литовском
ЛЕТОПИСАНИЕ
Важнейшая форма древнерусской историографии. Летописями называют тексты, содержащие описание исторических событий, организованное по годам. Как правило, большая часть летописи состоит из погодных статей, начинающихся обозначением года («В лето…») и продолжающихся сообщениями о событиях, нередко отделенных друг от друга оборотами типа «в то же лето» или «тои же зимы». Эти сообщения могут быть как краткими, только называющими то или иное событие, так и пространными, детализированными повествованиями. Иногда в текст погодных статей помещались документы, чуждые Л. в жанровом отношении (договоры Руси с Византией X в., «Русская Правда», «Поучение» блгв. кн. Киевского Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха, жизнеописания св. блгв. кн. Владимирского Александра Ярославича Невского, св. блгв. кн. Псковского Довмонта (Тимофея), блгв. кн. Московского и Владимирского Димитрия Иоанновича Донского, перечни князей и церковных иерархов и др. Для многих летописей характерны «пустые годы», т. е. обозначения годов без последующего текста. В начале летописных памятников обычно помещали вводный текст, не имеющий погодной разбивки. Погодная структура нехарактерна только для т. н. Галицко-Волынской летописи XIII в., а также для предполагаемых древнейших памятников рус. историографии кон. X или, скорее, XI в.
Все сохранившиеся до наст. времени памятники Л. так или иначе взаимосвязаны и имеют сложную картину сходств и различий. Тексты могут дословно совпадать на мн. страницах повествования, однако затем могут совершенно расходиться. В совпадающей части они могут различаться в отдельных деталях, наличием или отсутствием к.-л. известий, степенью подробности, датировками и т. д. Это обусловлено самой природой Л. Летописцы могли продолжать тексты, созданные их предшественниками, записями за новые годы, могли редактировать их, соединять разные тексты в один (создавать т. н. своды), исправлять отдельные детали (в т. ч. посредством выскабливания и т. п.).
Прп. Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 93)
Прп. Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 93)
Имена большинства книжников, участвовавших в этой работе, неизвестны. Так, в источниках XI-XIV вв. поименно названы только 4 летописца (монахи прп. Нестор Киево-Печерский и Лаврентий, игум. Сильвестр, пономарь Тимофей). Др. имена летописцев (прп. Никон Киево-Печерский, свящ. Герман Воята, иером. Кирик, игумены Поликарп и Моисей, боярин Петр Бориславич и др.) были предложены исследователями в результате разработок гипотез с разной степенью уверенности, выдвинутых учеными. Известен ряд имен летописцев более позднего времени, как названных в источниках, так и предполагаемых. Наряду с непосредственными авторами летописных записей большое значение имел патрон (заказчик) летописной работы. Это могли быть митрополиты, (архи)епископы, князья и, вероятно, настоятели мон-рей. Начиная с XV в. есть основания говорить и о частной инициативе, напр. отдельных монахов, в составлении летописей. Местом ведения летописей, как правило, были кафедральные соборы (как в Новгороде и, вероятно, в Ростове) или мон-ри (напр., Киево-Печерский, см. Киево-Печерская лавра).
Летописи включают сообщения о событиях самого разного рода: о сменах князей, смертях, рождениях и браках членов княжеского рода, междоусобицах, городских волнениях, княжеских преступлениях и т. п., о войнах с иноплеменниками, сменах посадников и тысяцких (в Новгороде), поставлении церковных иерархов, строительстве, поновлении и росписи церквей, об основании мон-рей, о необычных природных явлениях, знамениях и бедствиях (пожарах, голодных годах, эпидемиях и т. п. событиях), и мн. др.
Не вполне ясно, как древнерусские книжники и их патроны представляли себе цели Л. Прямые свидетельства на этот счет отсутствуют (кроме, пожалуй, известия ряда летописей о том, что в 1432 кн. Юрий Дмитриевич доказывал в Орде свои права на великое княжение «летописцы старыми списки и духовною отца своего»). В качестве гипотез предполагались задачи политико-идеологические (обоснование прав на власть, прославление династии и т. п.), политико-юридические (фиксация прецедентов), церковные (запись дней смерти или основания церквей для последующих служб и т. п.), эсхатологические (запись деяний людей для Страшного Суда [И. Н. Данилевский]) и др. Говоря о функциях раннего Л., важно иметь в виду, что нет сведений о тиражировании этих текстов (и, следов., о сколько-нибудь широком круге их читателей), скорее всего они имелись в одном экземпляре в соборных церквах или крупных мон-рях. Вероятно, переработка летописного текста не всегда подразумевала его переписку: книжники могли заменять отдельные тетради, вставлять листы и т. п. С XV в., когда переработка и копирование летописей приобрели большие масштабы, есть основания говорить о росте политического значения и тенденциозности летописей.
Все ранние летописи написаны на церковнослав. языке со значительным элементом живой восточнослав. речи (по В. М. Живову, гибридный церковнослав. язык). При этом язык конкретных летописцев может довольно существенно различаться (в т. ч. и по признаку использования восточнославянизмов, диалектизмов и др.), что дает основания для лингвистической стратификации летописей.
В Л. использовалось летосчисление от Сотворения мира (С. М.), как правило, к-польская эра, для к-рой дистанция от С. М. до Р. Х. составляет 5508 лет (см. в ст. Хронология). Летописцы XI-XIV вв. чаще всего считали, что год начинается весной (1 марта или в начале Великого поста), однако иногда — на полгода позже, а иногда — на полгода раньше визант. сентябрьского года (т. н. мартовский и ультрамартовский стили). Из-за несовпадения в определении, когда наступает новолетие, между летописями имеется немало расхождений в датировке событий, которые в летописях часто указывались не только по году от С. М., но и по месяцам и числам юлианского календаря по церковным праздникам, дням недели и даже иногда по времени суток. Нередким было указание на индикт.
Хотя Л. началось на Руси в XI в., сохранившиеся рукописи датируются временем не ранее XIII в. Известны всего 2 кодекса с летописями на пергамене (Синодальный список Новгородской I летописи XIII-XIV вв. и Лаврентьевская летопись 1377 г.; еще один пергаменный кодекс, Троицкая летопись нач. XV в., сгорел в московском пожаре 1812 г.), множество других являются бумажными. Из бумажных рукописей свыше 20 датированы XV или рубежом XV и XVI вв., остальные — более поздним временем. Иллюстрированные кодексы представлены Радзивиловской летописью (ок. 1487), Лицевым летописным сводом (60-70-е гг. XVI в.) и нек-рыми памятниками XVII в.
Как правило, «летописями» (Ипатьевская летопись, Новгородская I летопись и т. д.) называют группы близкородственных кодексов, содержащих приблизительно один и тот же текст, иногда с разным окончанием. «Списками» (напр., Ипатьевский список Ипатьевской летописи) называют конкретные кодексы, принадлежащие к этим группам, «изводами» — подгруппы этих списков (напр., Новгородская I летопись старшего и младшего изводов). В случае, если какая-то летопись представлена всего одним списком, она может называться и «летопись» и «список» (напр., Лаврентьевская летопись = Лаврентьевский список). Названия летописей и списков, принятые в науке, равно как и группировка списков в летописи, сложились исторически и не всегда отражают реальное содержание и соотношение текстов (напр., Ипатьевская летопись названа так потому, что ее древнейший список обнаружен в костромском Ипатиевском во имя Св. Троицы мужском монастыре, но ее текст не имеет никакого отношения к Костроме; Новгородская IV летопись древнее, чем Новгородские II и III летописи; различия между старшим и младшим изводами Новгородской I летописи, скорее заставляют считать их разными памятниками; и т. д.). Кроме названий реально сохранившихся текстов в лит-ре фигурируют наименования не существующих в оригинале, а реконструируемых памятников Л. (напр., «Повесть временных лет», Начальный свод, Свод 1212 г., Новгородская владычная летопись и др.). Слово «свод», подчеркивающее компилятивный характер большинства памятников Л., может использоваться по отношению как к реконструируемым текстам (напр., Начальный свод), так и к реально сохранившимся (напр., Ипатьевский свод = Ипатьевская летопись).
Л. XI-XIV вв.
Представлено следующими памятниками.
Лаврентьевская летопись. Начальный разворот. 1377 г. (РНБ. F.IV.2. Л. 1 об.— 2)
Лаврентьевская летопись. Начальный разворот. 1377 г. (РНБ. F.IV.2. Л. 1 об.— 2)
Лаврентьевская летопись известна в единственном списке (РНБ. F.п.IV.2), написанном в 1377 г. мон. Лаврентием и еще 2 писцами, вероятно, в Н. Новгороде. Отражает Л. Киева (в части до сер. XII в.), Переяславля-Южного (частично в тексте за XII в.) и Владимиро-Суздальской Руси (с сер. XII в.). К ней текстуально близка Троицкая летопись, доводившая изложение до 1408 г. и отражавшая в части за XIV — нач. XV в. Л. Москвы, Твери и других городов. Она сгорела в московском пожаре 1812 г., однако ее текст может быть с высокой степенью уверенности реконструирован на основе выписок Н. М. Карамзина из готовившегося в нач. XIX в. издания и др. источников.
Близкий к ним текст с описанием событий только до нач. XIII в. содержат еще 3 памятника. Радзивиловская летопись (БАН. 34.5.30, создана ок. 1487 на территории Литовского великого княжества) доводит изложение до 1206 г. Это древнейший сохранившийся иллюстрированный летописный кодекс: рукопись содержит 618 миниатюр, частично, как предполагается, воспроизводящих миниатюры утраченного протографа нач. XIII в. Московско-Академическая летопись (РГБ. Ф. 173.I.236) — рукопись кон. XV в., представляющая собой почти механическое соединение 3 памятников: до статьи 1206 г. она совпадает с Радзивиловской (и даже может быть названа ее Академическим списком); статьи 1205-1238 гг. совпадают с Софийской I летописью; текст за 1239-1419 гг. содержит краткую ростовскую летопись, в части за XIII в. родственную Лаврентьевской. Летописец Переяславля-Суздальского сохранился в 2 списках до 60-х гг. XV в. (РГАДА. Ф. 181. № 279/685; БАН. 45.11.16), из к-рых только 1-й содержит полный текст памятника до 1214 г. Статьи 1138-1206 гг. близки к Радзивиловской летописи; текст за 1206-1214 гг. оригинальный.
Под именем Ипатьевской летописи известна группа близкородственных списков, древнейший из к-рых (Ипатьевский, БАН. 16.4.4) написан ок. 1418 г., а 2-й по древности (Хлебниковский, РНБ. F.IV.230) — в 50-60-х гг. XVI в. (другие, еще более поздние списки близки к Хлебниковскому). Текст Ипатьевской летописи до кон. XII в. отражает киевское Л., а текст за 1201-1292 гг.- Л. Галицко-Волынской Руси.
Понятие «Новгородская I летопись» включает как старший извод — пергаменный Синодальный список (ГИМ. Син. 786; его 1-я ч. написана ок. 1234, 2-я — ок. 1330, также имеются приписки разными почерками о событиях 1330-1352 гг.; тетради с текстом до 1016 г. утрачены), так и младший извод: группу списков, древнейшие из которых — Комиссионный (СПбФИИ. Ф. 11. № 240) и Академический (БАН. 17.8.36) — датируются сер. XV в. (кроме того, есть неск. списков XVIII-XIX вв., восходящих к Академическому, а также Троицкий список 60-х гг. XVI в., РГБ. Ф. 173. IV. № 54, содержащий только текст до 1015 г.). Оба извода содержат почти идентичный текст новгородской летописи, отражающий события кон. XI — нач. XIV в., однако изводы различаются в части за XI в. Младший извод имеет продолжение о событиях XIV — 1-й пол. XV в. Ряд уникальных известий за XI и XIV вв. содержат также новгородско-софийские летописи, в целом представляющие сводческую работу уже XV в.
Три памятника содержат тверское Л. с кон. XIII в. и на протяжении всего XIV в.: Рогожский летописец — свод, сохранившийся в единственной рукописи 2-й четв. XV в. (РГБ. Ф. 247. № 253); Тверской сборник (Тв.), известный в 3 списках XVII в. (к Твери имеет отношение только текст с 1284 г.; более ранние статьи восходят к ростовскому своду 1534 г., который в свою очередь имел источники, близкие к новгородским и новгородско-софийским летописям), а также тверской летописный фрагмент за 1314-1344 гг., обнаруженный А. Н. Насоновым в рукописи XVII в. (ГИМ. Муз. № 1473).
История Л. XI-XV вв. во многих моментах может быть уверенно реконструирована на основе сравнительно-текстологического метода, анализа вставок, дублировок и внутренних т. н. швов, выявления языковой гетерогенности и др. методов. В то же время остается немало дискуссионных или не вполне проясненных вопросов.
Важнейшие из наиболее ранних сохранившихся летописных кодексов (Лаврентьевский, Радзивиловский, Московско-Академический, Ипатьевский, Хлебниковский) в части до 10-х гг. XII в. содержат почти идентичный текст, начинающийся словами: «Се повести времяньных лет…» и получивший поэтому в науке название «Повесть временных лет» (ПВЛ). Этот свод состоит из обширной недатированной части (рассказывающей о расселении народов после потопа, географии Вост. Европы, происхождении Киева, визите св. ап. Андрея Первозванного на Русь и др.) и погодных статей с 852 (6360) г. по 10-е гг. XII в. (конкретный момент, когда заканчивается ПВЛ и начинаются ее продолжения, является предметом дискуссии). Статьи ПВЛ за IX-X вв., очевидно, написаны ретроспективно, на основании устной традиции и визант. источников — прежде всего слав. перевода хроники Георгия Амартола с продолжением, а также подлинных договоров Руси с Византией, текст к-рых помещен в ПВЛ под 907, 911 (весьма вероятно, в этих 2 статьях помещены фрагменты одного и того же договора), 943 и 972 гг. С 1-й пол. XI в., наоборот, в ПВЛ появляются сообщения о событиях (часто лаконичные), точность датировки к-рых подтверждается зарубежными источниками. Следов., в это время в Киеве уже велись летописные записи, возможно в форме кратких анналов. С 60-х гг. XI в. в ПВЛ начинают регулярно встречаться т. н. дневные даты, а под одним годом сочетаться сообщения о событиях, друг с другом никак не связанных,- то и другое характерно для летописей, пополняющихся из года в год, т. е. во 2-й пол. XI в. в Киеве уже велось полноценное Л.
Существует т. зр., согласно к-рой ПВЛ 10-х гг. XII в. является 1-м пространным памятником древнерус. историографии, ей предшествовали только краткие записи (Т. Л. Вилкул, А. П. Толочко, В. Ю. Аристов). Однако значительная часть ученых (начиная с А. А. Шахматова, в совр. историографии — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев и др.) полагают, что при анализе ПВЛ могут быть гипотетически выявлены более ранние этапы летописной работы.
Так, большинство ученых считают, что у истоков рус. историографии стоял какой-то пространный, не разделенный на годы текст о древнейшей истории Руси (Древнейший свод, Древнейшее сказание, «нарративное ядро»). Ученые по-разному датируют этот памятник — 90-ми гг. X в., 10-ми, 30-ми или 60-ми гг. XI в. и определяют его содержание. Во 2-й пол. XI в. в Киево-Печерском мон-ре этот памятник был, по-видимому, соединен с ведшимися на протяжении XI в. краткими анналами, в результате чего сформировался летописный жанр в известной в наст. время форме.
Конкретная история Л. 2-й пол. XI — нач. XII в. тоже составляет предмет дискуссий. Шахматов в работах кон. XIX — нач. XX в. предложил реконструкцию древнейших этапов Л., ключевым моментом которой стал т. н. Начальный свод — киево-печерский памятник 90-х гг. XI в. Согласно Шахматову, в составе Новгородской I летописи младшего извода (списки сер. XV в. и позже) сохранился текст за IX — нач. XI в., более ранний, чем «классическая» ПВЛ. В этом тексте отсутствует ряд фрагментов ПВЛ, заведомо известных как вставные (напр., рассказ о 4-й мести св. равноап. кнг. Ольги (Елены)), нет договоров Руси с Византией, части цитат из хроники Георгия Амартола и др. Эту гипотезу Шахматова поддерживает значительная часть ученых (О. В. Творогов, А. А. Гиппиус, А. Тимберлейк, П. С. Стефанович и др.), другие же настаивают на вторичности текста Новгородской I летописи в сравнении с ПВЛ (В. М. Истрин, С. А. Бугославский, Д. Островский, Вилкул и др.).
Кроме Начального свода 90-х гг. XI в. восстанавливается еще один, более ранний этап киево-печерского Л.- свод 70-х гг. XI в., часто атрибутируемый прп. Никону Печерскому. Не исключено, что именно Никон соединил Древнейшее сказание с краткими анналами, впервые создав развернутую погодную летопись. Иногда исследователями реконструируется еще один, более ранний этап Л.: по Шахматову, новгородский свод ок. 1050 г.; по Гиппиусу, киевский свод ок. 1060 г.
Нет ясности и с процессом составления ПВЛ в 10-х гг. XI в. В части списков ПВЛ содержится запись игумена киевского Выдубицкого во имя арх. Михаила мужского монастыря свт. Сильвестра (впосл. епископ Переяславский) о написании им летописи в 1116 г. В то же время, судя по содержанию, ПВЛ в своей основе сложилась в Киево-Печерском мон-ре. Киево-печерская традиция, отразившаяся в Киево-Печерском патерике, а также в Хлебниковском списке (XVI в.), приписывает создание ПВЛ монаху Печерского мон-ря прп. Нестору. Большинство ученых полагают, что Нестор был составителем ПВЛ, а Сильвестр — переписчиком или создателем 2-й редакции (соответственно, ПВЛ была создана в 1113 или 1115 г., а рукопись/редакция Сильвестра — в 1116 г.). Есть, однако, т. зр., согласно к-рой единственным автором ПВЛ был Сильвестр. Текст ПВЛ по Ипатьевскому и Хлебниковскому спискам имеет ряд особенностей в сравнении с др. кодексами (дополнительные известия, др. редакция нек-рых сообщений, напр. рассказа о призвании варягов). По мнению мн. ученых, в Ипатьевском и Хлебниковском списках отразилась еще одна, 3-я, редакция ПВЛ (ок. 1118); др. исследователи отрицают наличие особой 3-й редакции.
Л. Юж. Руси XII в. (после окончания ПВЛ) отразила т. н. Киевская летопись — текст Ипатьевской летописи за 10-90-е гг. XII в. В окончательном виде Киевская летопись представляет собой обширный свод кон. XII или нач. XIII в., содержащий наиболее объемные в раннем Л. повествования о военно-политических событиях и дающий представление о значительном круге чтения его составителя, к-рый цитирует многочисленные переводные памятники — сочинения Иосифа Флавия, Иоанна Малалы и др. В составлении этого свода, вероятно, принимал участие выдубицкий игум. Моисей. Среди источников Киевской летописи были летописные записи не только Киева, но и др. городов — Переяславля-Южного, Чернигова, Галича, а также городов Владимиро-Суздальской Руси. Сравнение текста за XII в. в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях обнаруживает значительные совпадения, к-рые обусловлены использованием как южнорус. (переяславской) летописи во Владимиро-Суздальской Руси, так и, наоборот, владимирского материала в Киевской летописи. При этом в ряде случаев Лаврентьевская летопись передает более ранние чтения, нежели Ипатьевская. По-видимому, напрямую к Киевскому своду кон. XII — нач. XIII в. восходит Московский свод кон. XV в., в к-ром сохранился ряд известий, выброшенных в Ипатьевской летописи. Киевская летопись доводит изложение до 1200 г., однако нек-рые ученые в др. летописях усматривают остатки киевского Л. за 1-ю треть XIII в.
Галицко-Волынская летопись (текст Ипатьевской летописи за 1201-1292 гг.; в действительности 1-е события, описанные в этой части, относятся к 1205) состоит из 2 частей: галицкой (до 1258) и волынской (1259-1292). Этот текст в отличие от других летописей в оригинале не был разбит на погодные статьи (в таком виде он дошел до настоящего времени в Хлебниковском списке, в Ипатьевском — явно вторичная, искусственно сделанная годовая сетка). Повествование Галицко-Волынской летописи отличается связностью, сюжетностью, вниманием к фигурам конкретных князей, что дало повод рассматривать этот памятник как серию княжеских биографий. Как и в Киевской летописи, в Галицко-Волынской имеется целый ряд заимствований из переводных исторических сочинений. При этом, в отличие от большинства других летописей, здесь нет систематических сведений по церковной истории. Не исключено, что оригинал памятника имел миниатюры. Фрагменты более раннего галицкого Л. (XII в.) вошли в состав Киевской летописи.
В Новгороде летописные записи делались уже с сер. XI в., но скорее всего это были лишь краткие заметки, сохранившиеся в Синодальном списке Новгородской I летописи (ср., однако, гипотезу Шахматова о новгородском своде сер. XI в., отразившемся в целом ряде памятников, включая ПВЛ). Первый новгородский свод, соединивший киевский материал с местным, может быть датирован 90-ми гг. XI в. или 10-ми гг. XII в. (Т. В. Гимон). С сер. 10-х гг. XII в. в Новгороде начали систематически, из года в год вести летопись, пополнявшуюся до XV в. (ее оригинал до нас не дошел, но к ней восходят оба извода Новгородской I летописи, а также летописи новгородско-софийской группы). Лингвистический анализ памятников новгородского Л. выявил моменты смены пополнявших эту летопись авторов (Гиппиус). Эти моменты в большинстве случаев совпадают со сменами новгородских (архи)епископов, что позволяет говорить о данном памятнике как о новгородской владычной летописи (впрочем, не исключено, что первое время, в 1115-1132, патроном летописца был князь). Весьма вероятно, что летописцем архиеп. Нифонта (статьи 1132-1156 гг.) был иером. Кирик, а летописцем свт. Новгородского Иоанна (Илии) (статьи 1164-1186 гг.), отредактировавшим начальную часть летописи,- свящ. Герман Воята. Пример пономаря Тимофея (XIII в.) показывает, что один человек, будучи клириком приходской церкви Новгорода, мог заниматься перепиской богослужебных книг на заказ и одновременно исполнять обязанности архиепископского секретаря, пополняя летопись и составляя официальные документы. Новгородское Л. XII-XIV вв. отличается лаконичностью, вниманием к местным, городским делам (внутренние конфликты, смены посадников и тысяцких, пожары, строительство церквей и др.), а также к природным явлениям. Л. XIII в. более пространное и лит. обработанное, чем Л. XII и XIV вв. Со 2-й четв. XIV в. (Л. свт. Василия Калики) новгородская владычная летопись начинает чаще интересоваться событиями за пределами Новгородской земли. Высказывались гипотезы о том, что Л. велось в Новгороде не только в соборном храме Св. Софии, но и в др. церквах и мон-рях Новгорода и его окрестностей. Однако имеется только 2 примера. Во-первых, это Синодальный список Новгородской I летописи, представляющий собой копию владычной летописи, сделанную для Юрьева новгородского мужского монастыря ок. 1234 г., пополненную по той же владычной летописи ок. 1330 г., а в 1330-1352 гг. получившую ряд приписок разными почерками о текущих событиях. Во-вторых, записи в рукописи Студийского устава кон. XII в. (ГИМ. Син. 330), которые представляют собой выписки из владычной летописи, касающиеся Благовещенского на Мячине монастыря. Т. о., в обоих случаях перед нами не самостоятельные летописи, а копия владычной летописи и выписки из нее, сделанные для нужд конкретных монастырей.
С XIII в. летописные записи стали делать в Пскове. В XIV в. псковское Л. приобрело более регулярный характер. По содержанию псковские летописи сходны с новгородскими: их отличают деловой стиль, интерес к городским событиям, строительству, природным явлениям, а также к взаимоотношениям Пскова с Ливонским орденом, Новгородом и Литвой. Центром Л. был Троицкий собор. Материалы псковского Л. XIII-XIV вв. сохранились в переработанном виде: в составе псковских сводов с сер. XV в., а также в т. н. новгородско-софийских летописях.
Л. Сев.-Вост. Руси началось в сер. XII в. и отразилось в Лаврентьевской, Радзивиловской, Московско-Академической летописях, Летописце Переяславля-Суздальского, Московском своде кон. XV в. и др. Местом ведения летописи в XII-XIII вв. были Владимир и/или Ростов. Традиционно патронами Л. считаются вел. князья Владимирские, однако в последние годы получен ряд данных о связи Л. с Ростовской епископской кафедрой. Тем не менее северо-вост. Л. отличается от новгородского особым вниманием к деятельности князей, а не к жизни одного из городов. К нач. XIII в. относится составление Владимирского великокняжеского свода, иллюстрации которого предположительно были использованы художниками Радзивиловской летописи. С кон. XIII в. Л. начинается в Твери (отразилось также в заключительных статьях Лаврентьевской летописи), а с XIV в.- в Москве (дошло гл. обр. в Троицкой летописи).
Л. XV в.
Для этого времени характерны объединительные тенденции в рус. княжествах и соответственно обострившаяся политическая и идеологическая борьба, которая провоцировала более частый пересмотр летописных текстов, особенно в Москве и Новгороде, что также способствовало составлению общерус. сводов (т. е. таких, к-рые не ограничивали внимание историей какой-то одной земли, подобно большинству памятников XII-XIV вв.). Кроме того, это время становления книжной культуры в новых монастырях-землевладельцах (Троице-Сергиевом (см. Троице-Сергиева лавра), Кирилловом Белозерском в честь Успения Пресв. Богородицы мужском монастыре и др.), что также сказалось на развитии Л. Наконец, в XV в. в широкое употребление вошел более дешевый, нежели пергамен, материал для письма — бумага, что облегчило составление новых летописных текстов.
Общерусский митрополичий свод нач. XV в., составленный в Москве и доведенный до 1408 г., отразился в Троицкой летописи. В этом своде были использованы летописные материалы из Москвы, Твери, Новгорода, Суздаля, Ростова и др. Особое внимание в своде уделялось митр. Киевскому свт. Киприану, вскоре после смерти которого (1406) свод был составлен. Тверская обработка этого свода (или, может быть, его протографа), охватывающая события до 1412 г., отразилась в Симеоновской и Никоновской летописях и в Рогожском летописце.
Особую группу памятников Л. составляют новгородско-софийские летописи: Новгородская Карамзинская (единственный список рубежа XV и XVI вв., РНБ. F.IV.603, имеющий необычную структуру: летописный текст в нем разделен на 2 подборки), Софийская I (представлена старшим и младшим изводами; списки с 60-70-х гг. XV в.) и Новгородская IV (также имеющая старший и младший изводы; списки с 70-х гг. XV в.). Эти летописи отражают сводческую активность в Новгороде, Москве и, возможно, в Троице-Сергиевом мон-ре в 1-й пол. XV в. и по-разному сочетают известия, взятые из новгородского Л., из летописи типа Троицкой, а также из др. источников. В новгородско-софийских летописях впервые появляются обширные повести о Куликовской битве, нашествии хана Тохтамыша, «Слово о житии и преставлении» св. блгв. кн. Московского и Владимирского Димитрия Донского и др. Если в Софийской I летописи доля новгородских известий сравнительно невелика, то в Новгородской Карамзинской она существенно больше, в Новгородской IV — еще значительнее. Существует 2 основные гипотезы относительно того, как соотносятся между собой новгородско-софийские летописи. Согласно первой, в их основе лежит т. н. Новгородско-Софийский свод (ученые датируют его временем от 10-х гг. XV в. до 1448 г.), к-рый впосл. по-разному редактировали в Новгороде и Москве (Шахматов, Я. С. Лурье, М. А. Шибаев). Согласно др. гипотезе, соотношение новгородско-софийских летописей объясняется сложнее, и, в частности, постепенное сложение этих текстов отражают 2 подборки Новгородской Карамзинской летописи, причем в 1-й представлен наиболее ранний этап сводческой работы (Г. М. Прохоров, А. Г. Бобров; при этом Прохоров считает, что новгородско-софийские летописи складывались с кон. XII в., а по более реалистичному взгляду Боброва, история их составления укладывается в 1-ю пол. XV в.). Часть ученых называют одним из этапов сложения новгородско-софийских летописей Московский свод (Полихрон) митр. Киевского свт. Фотия или даже отождествляют его с Новгородско-Софийским сводом (Б. М. Клосс). В любом случае Софийская I летопись представляет московскую ветвь новгородско-софийских летописей (и на ней основано московское Л. 2-й пол. XV в.), а Новгородская IV — новгородскую ветвь, использованную позднее в новгородских и псковских компиляциях.
Ряд памятников отражает московское великокняжеское Л. 2-й пол. XV в., для к-рого реконструируется неск. последовательных этапов переработки. Свод нач. 70-х гг. XV в. (основанный в свою очередь на Софийской I летописи) отразился в Никаноровской, Вологодско-Пермской летописях, Летописи Лавровского и Музейском летописце (по Лурье); свод 1477 г.- в «Летописце русском от 72-х язык» (в Лихачёвском, Прилуцком и Уваровском списках). Свод 1479 г. сохранился в почти неизменном виде в Архивском списке кон. XVII-XVIII в. и Эрмитажном списке XVIII в., в несколько переработанном виде — в Уваровском списке XVI в.; в лит-ре называется также «Московский свод кон. XV в.». Свод 1479 г. отличается от предшествующего Л. более светским характером содержания, значительным объемом дополнительно привлеченных источников (владимиро-суздальских, южнорусского). Составитель этого свода в изложении событий прошлого целенаправленно изменял текст источников в промосковском духе. В 80-90-х гг. XV в. московское великокняжеское Л. продолжалось. Его материалы за эти годы отразились в ряде памятников: в тексте Уваровского списка за 1479-1493 гг., в неопубликованном Лихачёвском списке «Летописца русского от 72-х язык» (Арх. СПбИИ РАН. Кол. 238 (Н. П. Лихачёва). № 365), в Погодинском и Мазуринском видах Сокращенных сводов, в Симеоновской летописи (последняя представляет собой свод рубежа XV и XVI вв.), а также в Воскресенской летописи и др. сводах XVI в.
Московское Л. 2-й пол. XV в. не сводится, по-видимому, к официальным памятникам. Так, «частной» летописью (по С. Н. Кистерёву) являлся один из источников свода 1518 г.,- общего протографа Софийской II и Львовской летописей,- к-рый ученые связывают с клиром одной из кремлевских церквей.
Л. в XV в. развивалось и в др. центрах, причем некоторые летописи характеризует независимая политическая позиция, отличавшаяся, скажем, от взгляда великокняжеских летописцев. Примером может служить Л. Ростова, по-прежнему связанное с Ростовской кафедрой. До 1419 г. ростовское Л. отразилось в Московско-Академической летописи. Согласно О. Л. Новиковой, текст этой летописи за 1413-1419 гг. составлен уже в Москве, в резиденции ростовского владыки в Дорогомилове. К этому же памятнику восходит «Летописец русский» кон. XV в., опубликованный Насоновым по спискам ГИМ. Син. 941 и РГБ. Муз. 3841. Ростовский свод 1489 г. составил основу Типографской летописи. В этом своде обнаруживается независимая от великокняжеской власти позиция по ряду вопросов (напр., летописец осуждает репрессии в присоединенных к Москве Новгороде и Твери).
В Ермолинской летописи (доходящей до 1481 г. с приписками за 1485-1488 гг.), а также в Устюжской и Сокращенных сводах отразился (по гипотезе Лурье) летописный свод 70-х гг. XV в., составленный в Кирилловом Белозерском мон-ре и тоже отличавшийся независимым взглядом на ряд событий. В статьях 1462-1472 гг. Ермолинской летописи присутствуют известия о деятельности архитектора и строителя В. Д. Ермолина. С Кирилловым Белозерским мон-рем связывается и младший извод Софийской I летописи (60-е гг. XV в.). В составе одного из сборников известного кирилло-белозерского книжника 2-й пол. XV в. мон. Евфросина (ныне в 2 кодексах: РНБ. Кир.-Бел. 22/1099; РНБ. Погод. 1554) известен краткий «Русский летописец», к-рый нек-рые исследователи атрибутируют самому Ефросину.
В Твери Л. продолжалось до утраты независимости в 1485 г. (последовательный ряд тверских известий до этого времени сохранился в составе Тверского сборника). Л. Вологды с 70-х гг. XV в. отразилось в Вологодско-Пермской летописи. Летописные записи, делавшиеся в кон. XIV-XV в. в Вел. Устюге отразились в Устюжской (Архангелогородской) летописи. Из состава Коми-Вымской летописи (80-е гг. XVI в.) вычленяется серия известий, восходящих к пермской владычной летописи, ведшейся в Усть-Выми в кон. XIV-XV в. (вероятно, также послужила источником Вологодско-Пермской летописи).
В Новгороде в 1-й пол. XV в. Л. представлено, с одной стороны, продолжением новгородской владычной летописи (отразилось в Новгородской I летописи младшего извода), а с другой — новгородской версией Новгородско-Софийского свода (Новгородская IV летопись), тоже созданной по инициативе архиеп. свт. Евфимия II Вяжицкого. В сер. XV в. по его же инициативе создается Новгородская V летопись — сокращенная переработка Новгородской IV с исправлениями по Новгородской I. В 1450 г., судя по упоминанию в Новгородской II летописи (XVI в.), какой-то памятник Л. был создан в Лисицком мон-ре. К XV в. относится и несохранившийся краткий новгородский летописец, послуживший источником таких памятников, как Летопись Авраамки, Летописец еп. Павла, Рогожский летописец, Новгородская Большаковская летопись и др. Новгородское Л. кон. 40-х — 70-х гг. XV в. отразилось в Строевском и Синодальном списках Новгородской IV летописи, в Летописи Авраамки, а также в Устюжском летописце. По гипотезе Боброва, в 70-х гг. XV в. Л. перешло из ведения архиепископов в ведение коллегии посадников. После утраты Новгородом независимости (1478) Л. здесь возобновляется лишь в XVI в.
В Пскове на протяжении XV в. также вели Л., разные его слои отразились в Псковских I, II и III летописях (из них только II дошла в рукописи 80-х гг. XV в., остальные — в более поздних). В основе всех 3 памятников лежит псковский свод сер. XV в., которому было предпослано жизнеописание св. кн. Псковского Довмонта (Тимофея). В этом своде были использованы источники из Новгорода, Смоленска и др.; т. о., псковское Л. тоже приобрело общерус. характер. Уже в 1-й пол. XV в., на одном из этапов работы над новгородско-софийскими летописями, в распоряжении сводчика имелся какой-то псковский летописный текст за XIV — нач. XV в. Для 2-й пол. XV в. предположительно реконструируется ряд этапов летописной работы в Пскове.
Наряду с пространными памятниками Л. с древнейших времен известны разнообразные краткие летописчики и подобные им тексты. Так, в составе «Памяти и похвалы князю Владимиру» Иакова Мниха (XI в.) читается роспись событий времен Владимира Святого, датированных по годам его правления. Часть «Поучения» Владимира Мономаха составляет перечисление в хронологическом порядке его военных и охотничьих достижений. В рукописи Студийского устава кон. XII в. (ГИМ. Син. 330) на последней, чистой странице сделано неск. выписок из новгородской владычной летописи, касающихся строительства Благовещенского мон-ря под Новгородом и смертей 2 архиепископов — его основателей. Рус. известиями, доходившими до 1278 г., в XIII в. в Ростове был продолжен славянский перевод «Летописца вскоре» патриарха Никифора (древнейшие списки в составе Кормчих книг). Известны 2 серии летописных записей на пасхалиях: 1) ок. 40 кратких записей, вписанных в клетки пасхальной таблицы в новгородской рукописи сер. XIV в. (ГИМ. Син. 325), вероятно, имевшей тверской протограф; 2) ок. 50 сообщений о событиях 2-й пол. XV в. на полях пасхалии в сборнике РГБ. 304.I.762, принадлежавшей Симеону (Сергию), протопопу московского Успенского собора, Новгородскому архиепископу, а затем монаху Троице-Сергиева мон-ря († 1495). Родственной летописям формой историописания были перечни князей, церковных иерархов, новгородских посадников и тысяцких, а также епископий и городов, читающиеся в целом ряде рукописей XV в.- чаще всего внутри летописного текста или в составе его «конвоя». Весьма вероятно, что нек-рые из этих перечней имели протографы кон. XI и/или 60-х гг. XII в. Во многих рукописях нелетописного содержания имеются приписки об отдельных исторических событиях (иногда в составе выходных записей писцов, но нередко и в виде самостоятельных «летописных» записей или серий таковых). Наконец, нек-рое количество «летописных» надписей известно среди граффити древнерус. церквей (с XI в.).
Л. XVI-XVIII вв.
В отличие от Л. XV в. традиция XVI в. почти не знает памятников, оппозиционных по отношению к гос. власти; местное Л. продолжалось лишь в Новгороде, Пскове и Устюге, но не носило антимосковской направленности. По мнению Лурье, в XVI в. происходил относительный спад в развитии рус. Л. Д. С. Лихачёв, напротив, считал XVI в. расцветом Л.- в это время были созданы крупнейшие исторические компиляции (Никоновская, Воскресенская летописи, Лицевой летописный свод). Летописи претерпели изменения: годовые статьи стали более пространными, некоторые памятники по форме сблизились с историческими повестями и трактатами, сохраняя при этом все особенности летописного жанра. По мнению Я. Г. Солодкина, в это время существовали также неофициальные (как правило, боярские) частные летописцы, к-рые не сохранились, но дошли до настоящего времени в летописях XVII в.
Софийская 1-я летопись (С1) по списку Царского (С1Ц) была создана вскоре после 1508 г. (текст доведен до этого года). С1Ц существенно отличается от др. списков С1. В ее основу была положена С1 младшей редакции. Кроме того, был привлечен Сокращенный свод кон. XV в. (близкий к Погодинскому списку), а также записи московского великокняжеского Л., доведенные до 1508 г. (Клосс). Поднимался вопрос о влиянии С1Ц на последующее рус. Л. Памятник был использован при создании Воскресенской летописи (Шахматов, В. А. Кучкин, Клосс).
Два важнейших памятника рус. исторической книжности — Львовская летопись (Львов.) и Софийская 2-я летопись (С2) — восходят к Летописному своду 1518 г. (Св.1518). Львов. представляет собой компиляцию 2 памятников: сначала следует тексту Св.1518 вплоть до его завершения, а после этого — Своду 1560 г. (Клосс). С2 совпадает с Львов. с кон. XIV в. и до 1518 г. (Шахматов). Позже было выяснено, что источником С2 и Львов. послужила одна и та же рукопись (Клосс, Лурье). Выделяют 2 редакции Св.1518: первая возникла в результате соединения Ростовского свода 1489 г. и великокняжеской летописи, доведенной до 1518 г. (сохр. в составе Уваровской летописи); вторая сложилась в результате дополнения 1-й по различным источникам, среди которых — великокняжеский Московский свод кон. XV в., Сокращенный свод 1491 г., материалы митрополичьего архива, компиляция, включавшая Ермолинскую летопись, летопись, сходную с Типографской, и С1 (Клосс). Одним из основных источников Св.1518 считается летописный свод 80-х гг. XV в., оппозиционный по отношению к Иоанну III; к этому своду восходит цепь уникальных известий в С2 и в Львов., завершающаяся на 80-х гг. XV в. Составителями были книжники Успенского собора (по мнению Клосса, В. Д. Назарова), или это был летописец священника московской ц. во имя св. Иоанна Лествичника Петра-Кифы, составителя «Слова на второе перенесение мощей митрополита Петра» и «Сказания от чудес некоего любомудреца» (как считает Кистерёв).
Иоасафовская летопись (Иоасаф.) сохранилась в единственной рукописи. Она охватывает события с 1437 по 1520 г., название дано по имени владельца рукописи митр. Московского Иоасафа (Скрипицына). В основе Иоасаф. лежит Московский свод кон. XV в., продолженный записями до 1520 г., к-рый был дополнен материалами церковного происхождения, в частности известиями Св.1518, рассказами о чудесах при гробницах святителей Московских Петра и Алексия и др.
Крупнейший памятник русского Л. XVI в.- Никоновская летопись (Ник.), названная по одному из списков, который принадлежал патриарху Московскому Никону. Этот летописный свод митр. Даниила (Клосс) охватывает события до 1520 г. Оригинал Ник. сохранился в составе рукописи М. А. Оболенского (Обол.) РГАДА. Ф. 201. № 163 (конволют). Часть этой рукописи, содержащая Ник., датируется 20-30-ми гг. XVI в. Основные источники Ник.- Симеоновская, Иоасаф. и Новгородская хронографическая летописи, протограф Владимирского летописца, тверской источник (по Клоссу — летописный свод, сходный с Рогожским летописцем и Тверским сб.); вероятно, был привлечен Св.1518, что согласуется с предположением об использовании Св.1518 при создании Иоасаф. (Насонов), Московский свод кон. XV в., Хронограф 1512 г. (С. П. Розанов), 2-й хронографический памятник, сходный с Западнорусским хронографом (Клосс). Особенность Ник.- наличие родословных росписей рядом с именами князей, близких к генеалогическим материалам, читающимся на листах 389-477 сборника БАН. Арханг. Д. 193. Некоторые известия Ник. уникальны. Источники были творчески обработаны составителями этой летописи в интересах митрополичьей кафедры, последовательно проведены идеи защиты церковного имущества и прав Церкви на собственность, а также союза гос-ва и Церкви, дано историческое обоснование ряда вопросов, которые были предметом обсуждения на церковном Соборе 1531 г. В 50-х гг. XVI в. со списка Обол. была снята копия, дополненная по Воскресенской летописи и «Летописцу начала царства» (см. ниже), доведенному до 1556 г., рукопись (БАН. 32.14.8) получила наименование Патриаршего списка (Патр.), бытовала в церковных кругах. Обол. использована при создании Лицевого свода и Летописного свода 1560 г., а впосл. рукопись оказалась в Троице-Сергиевом монастыре, где в 30-х гг. XVII в. была использована для создания особой, Троицкой, редакции Ник. (Клосс).
Вторым по масштабам летописным памятником XVI в. считается Воскресенская летопись (Воскр.), сохранившаяся в нескольких списках: одни содержат 1-ю половину, другие — 2-ю половину текста. Полный текст Воскр. отразился в Библиотечном списке (РНБ. F.IV.239; F.IV.585) и копиях с него. Списки, содержащие половину текста произведения, восходят к несохранившемуся списку-двухтомнику (А. В. Сиренов). Основные источники Воскр.- Свод 1479 г. и С1Ц. Текст доведен до 1541 г., древнейшие списки относятся к 50-м гг. XVI в. При определении времени создания Воскр. учитывалось, что в последних статьях ее составитель симпатизирует Шуйским, к-рые имели наибольшее влияние в 1542 г., последним в перечне митрополитов назван Макарий (митрополит с 1542), а польск. кор. Сигизмунд (ум. в 1548) упоминается живым (С. А. Левина). Но в Библиотечном списке имя Макария приписано др. почерком, следов., работа велась до 19 марта 1542 г. Тексту Воскр. предшествуют 2 оглавления: в первом повествование доведено до 1533 г., во втором — до 1537 г. На этом основании выделяют 2 редакции памятника — 1533 и 1537 г. (Шахматов). Два кратких летописца (ГИМ. Син. 939 и БАН. Арханг. Д. 193), вышедшие из-под пера известного книжника 1-й трети XVI в. Михаила Медоварцева, отразили текст Воскр. (Сиренов). Один из них (БАН. Арханг. Д. 193) составлен в 20-х гг. XVI в., когда, следов., появилась первоначальная редакция Воскр.
В нач. 50-х гг. XVI в. был создан «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича» (ЛНЦ) — произведение, оригинальное по форме и содержанию, по жанровой принадлежности сближающееся с историческими повестями. В ЛНЦ соединены документальное и хронографическое начала, для него характерно совмещение «деловой приказной речи с литературно-украшенной» (Лихачёв). Еще до обнаружения древнейших списков ЛНЦ Шахматов предположил, что повествование о событиях за 1534-1556 гг. в Патр., за 1542-1558 гг. в Обол. и за 1534-1560 гг. во Львов. заимствованы из официальной летописи. Впосл. Н. Ф. Лавров обнаружил списки (происходящие из Кириллова Белозерского монастыря), содержащие ЛНЦ вне состава более крупных компиляций. А. А. Зимин установил, что это наиболее ранняя редакция ЛНЦ. Первоначально ЛНЦ описывал события до взятия Казани и возвращения царя в Москву в форме панегирика по случаю победы (С. О. Шмидт). Повествование начинается с вокняжения Иоанна IV Васильевича (1533). Особое внимание уделено внешнеполитическим контактам, дипломатическим отношениям, военным походам. Со временем текст был отредактирован, 2-я редакция положена в основу офиц. летописца эпохи Иоанна IV (А. Е. Жуков). Вопрос о круге создателей ЛНЦ спорный: составление памятника связывали с деятельностью свт. Макария (Лавров, Насонов) или же приписывали авторство А. Ф. Адашеву (Зимин). Светский характер ЛНЦ не следует преувеличивать: значительная часть известий в его составе посвящена вопросам истории Церкви. Возможно, в его создании участвовали как светские, так и духовные лица (А. С. Усачёв). Текст ЛНЦ вошел в состав ряда летописных сборников XVI-XVII вв. и послужил источником Летописного свода 1560 г. и Лицевого летописного свода.
Летописный свод 1560 г. (Св.1560) — компиляция текстов на основе Воскр. и Ник. (Обол. и один из списков двухтомника Воскр.); другими его источниками были Св.1518 в списке, более исправном, чем тот, что использовали составители С2 и Львов., Новгородский свод 1539 г., Житие прп. Михаила Клопского и разрядные материалы семейства Колычевых (Жуков). Клосс и Жуков предположили, что Св.1560 появился при митр. сщмч. Филиппе II (Колычеве), возможно в его окружении. А. Е. Пресняков обнаружил список РГАДА. МГАМИД № 11, к-рый назвал Архивским летописцем, а Насонов — список РГБ. Рум. Ф. 256. № 255 (Румянцевский летописец). Позже Клосс установил, что это один и тот же текст, совпадающий также с текстом Львов. после 1518 г.
Крупнейший памятник официального русского Л. XVI в.- Лицевой летописный свод (ЛЛС), компиляция, состоящая из 10 томов, украшенных 16 тыс. миниатюр. Первые 3 тома посвящены всемирной истории, последующие — рус. истории. Последние 2 тома (т. н. Синодальный том и Царственная книга) охватывают правление Иоанна IV. Завершается текст 1567 г. Первую публикацию во 2-й пол. XVIII в. осуществил М. М. Щербатов, обнаруживший Царственную книгу (ГИМ. Син. 149). Долгое время создание ЛЛС относили к XVII в. Но водяные знаки бумаги свидетельствуют о том, что памятник был создан в 70-х гг. XVI в., т. е. в годы правления Иоанна IV (Н. П. Лихачёв). Высказывалось мнение, что ЛЛС составляли с 1568 и до сер. 1576 г. в царской книгописной мастерской в Александровой слободе (Клосс) или же что в дек. 1576 г. была завершена только хронографическая часть памятника и активно шла работа над летописной (А. А. Амосов); существует гипотеза, что в его создании принимали участие книжники из митрополичьего или чудовского скриптория, ранее составившие Степенную книгу (Усачёв). Выявлены неск. рукописей, к-рые были непосредственными источниками памятника: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия (В. Ф. Покровская), Обол., список Еллинского летописца 2-го вида (Клосс), Томский список Степенной книги царского родословия (Сиренов). Переписчики ЛЛС соединяли фрагменты, заимствованные из источников, практически не изменяя их текст (в этом ЛЛС сходен со Св.1560). По поводу авторства приписок к тексту ЛЛС за период царствования Иоанна IV возникла дискуссия. Согласно одной т. зр., они были сделаны непосредственно царем (Д. Н. Альшиц). По другому мнению, приписки были сделаны лицом из окружения Иоанна IV (Шмидт). Существует также гипотеза, согласно которой приписки к Царственной книге сделал дьяк И. М. Висковатый между 1568 и 1570 гг. (Н. Е. Андреев). Одни исследователи считали содержание приписок тенденциозным (Альшиц, Шмидт), другие — достоверным (Андреев).
В 3-й четв. XVI в. составлена общерусская Холмогорская летопись (Холм.), доведенная до 1558 г. («Книга Летописец Киевский и Володимерский и Московский и всех руских князей»), впервые исследованная (в одном списке) Лурье. Более ранний список, кон. XVI в., обнаружен А. В. Лаврентьевым. В начальной части Холм. сходна с Типографской летописью; с сер. XII до кон. XIV в.- со Львов.; с кон. XIV по кон. XV в. текст сближается с Вологодско-Пермской летописью (в особой редакции, к к-рой восходит ряд уникальных известий Холм.); источниками были Сказание о князьях Владимирских, Повесть о Флорентийском Соборе Симеона Суздальского, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, Послание Филофея Мисюрю Мунехину «на звездочетцев». Соединение источников не было механическим: компилятор выстраивал известия в хронологическом порядке, в нек-рых случаях вставлял в текст собственные комментарии, проводил своеобразный анализ фактов и пытался согласовать противоречивые сведения своих источников (Лурье). Важное место в Холм. занимают сведения по истории Русского Севера (Холмогор и Двинской земли), особенно с кон. XV в.
В XVI в. создается Тверская летопись, или Тверской сборник (Тв.), дошедший в 3 списках XVII в. Предполагают, что составитель был ростовцем. Первая часть Тв. заимствована из Ростовского свода, близкого к Ермолинской и ко Львов., в распоряжении составителя была Н1, на протяжении 6793-6883 (1285-1375) гг. текст совпадает с Рогожским летописцем. Источником Тв. и Рогожского летописца был тверской летописный свод 1375 г. в редакции 1455 г., составленной в Твери под влиянием Свода 1448 г. (Насонов), однако есть мнение (Лурье), что никакого влияния Свода 1448 г. в Тв. не обнаруживается, а сходный текст Тв. и Рогожского летописца возник под влиянием др. памятника — Свода 1408 г., отразившегося в Троицкой летописи.
В XVI в. Л. развивается и на севере России. Одним из наиболее ярких памятников местного Л. XVI в. является Устюжская летопись (Устюж.) 1-й четв. XVI в. Она содержит местные и общерус. известия, состоит из 3 частей: с 852 по 1114 г., с 1124 по 1473 г., с 1474 по 1516 г. Устюж. сохранилась в 2 редакциях. Первая представлена списком Мацеевича, обнаруженным К. Н. Сербиной (ИРЛИ (ПД). Древл. Оп. 23. № 134), 2-я была известна Шахматову под названием Архангелогородского летописца. В 3-й части списки Устюж. содержат большее количество расхождений, на это время приходятся наиболее важные события для устюжан, когда они активно участвовали в жизни Московского гос-ва. По мнению Сербиной, эта летопись ближе всего стоит к Сокращенному своду по Погодинскому списку; составитель Устюж. во 2-й части привлек протограф, общий с Сокращенным сводом, дополнив его общерусскими, ростовскими, новгородскими и устюжскими известиями, извлеченными из великокняжеского Московского свода XV в. и др. письменных и устных источников. Согласно Лурье, Устюж. восходит к независимому Кирилло-Белозерскому своду. В рукописи содержится ряд уникальных общерус. и новгородских известий, присутствуют особые изложения тех событий, к-рые читаются и в др. летописях. Сербина отмечала противоречивый характер Устюж.: с одной стороны, преданность устюжан вел. князьям Московским, с другой — критические замечания в адрес как великокняжеских воевод, так и самого вел. князя. Составитель во мн. случаях отмечает участие устюжан в походах вел. князей Московских против удельных князей, подчеркивает особую роль «добрых людей» Устюга, т. е., вероятно, верхушки городского посада.
Лурье считал, что новгородское Л. не продолжалось после присоединения Новгорода к Московскому гос-ву, однако позднее выяснилось, что это не так. Как показала Новикова, в 1-й пол. XVI в. оно базировалось на новгородском Л. 30-40-х гг. XV в. В основу большинства новгородских летописей XVI в. легла Новгородская 4-я летопись (Н4), 2 списка к-рой содержат текст до 1515 г. и до 1516 г., а также общий текст до 1513 г. Вероятно, в это же время был составлен еще один летописный свод новгородского происхождения. Среди источников Свода 1513 г. был и Сокращенный свод Мазуринского вида, 2-м источником была краткая новгородская летопись, завершавшаяся примерно на 1500/01 г. (может быть приблизительно реконструирована на основании сопоставления нек-рых новгородских летописей).
В Новгородской летописи по списку Дубровского (НлД) и в Архивской (Ростовской) летописи (Шахматов) отразился новгородский летописный Свод 1539 г. В основе 1-й части НлД лежит Н4 Старшей редакции, близкая к Голицынскому списку, привлекались также Н4 Младшей редакции, близкая к Академическому списку, а также новгородская редакция Сокращенного свода (Новикова). По мнению Шахматова, к Своду 1539 г. восходит также Отрывок Летописи по Воскресенскому Новоиерусалимскому списку (ГИМ. Воскр. № 154б (далее: Отрывок)), в к-ром с 7022(1414) по 7046(1538) г. содержится текст, первичный по отношению к НлД. С. Н. Азбелев полагает, что Отрывок отражает 1-ю редакцию Свода 1539 г.; по мнению Новиковой, Отрывок — это подготовительный этап работы над этим Сводом.
Др. традицию в новгородском Л., не связанную со Сводом 1539 г., представляет Новгородская Большаковская летопись, содержащая ряд уникальных известий 1-й пол. XVI в. Характер статей за 20-30-е гг. XVI в. позволяет предположить, что ее создание связано с деятельностью новгородского наместника М. С. Воронцова (Е. Л. Конявская).
В единственной рукописи сохранился Постниковский летописец (обнаружен М. Н. Тихомировым), 1-я часть к-рого близка к С2, 2-я содержит текст, изобилующий уникальными известиями — своеобразными мемуарами в форме летописных записей; текст обрывается на 1547 г. Более ранние памятники подобного рода неизвестны. Составитель был хорошо осведомлен о внешнеполитических и внутренних вопросах жизни Московского гос-ва, зафиксировал подробности политических расправ 30-40-х гг. XVI в.- возможно, это был Постник Губин, дьяк Разрядного приказа с 1542 по 1558 г. (Тихомиров).
Псковское Л. сместилось в это время в псковские мон-ри (Насонов). В сер. XVI в. создан псковский свод 1547 г., оригинал к-рого представлен Варшавским списком. Памятник связан с псковским Елизаровым во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста монастырем и старцем Филофеем. Псковская 3-я летопись (П3) создана ок. 1567 г. Псковская 1-я летопись и П3 до 1481 г. восходят к общему протографу, после этого сближаются только в отдельных известиях. Насонов предполагал, что Свод 1567 г. был создан в Псково-Печерском в честь Успения Пресв. Богородицы мужском монастыре в окружении игум. Корнилия; ученый считал, что этот текст антимосковской направленности. Другого взгляда придерживался Андреев, полагавший, что Корнилий был иосифлянином и в летописи не выражено никакой специфически местной т. зр.
Вопрос о Л. на рубеже XVI и XVII вв. несколько раз поднимался в литературе. В. И. Корецкий полагал, что в это время существовала летопись Иосифа, келейника св. патриарха Иова, к-рая была положена в основу мн. последующих летописных сочинений, но эта гипотеза не нашла поддержки. Е. И. Дергачёва-Скоп высказывала предположение о том, что существовал Сибирский летописец кон. XVI в., который лег в основу Румянцевского летописца. Но твердых данных о существовании Л. этого периода, как и самих летописей, к-рые можно было бы датировать этим временем, нет. По мнению Лурье, офиц. Л. прекратилось в годы опричнины. Корецким и Б. Н. Морозовым обнаружен т. н. Поволжский летописец нач. XVII в. (датировка по Солодкину), использовавший воспоминания какого-то участника начала Смуты.
В период правления царя Михаила Феодоровича появилось неск. исторических сочинений, традиционно названных летописцами, хотя, возможно, некоторые из них нельзя уже считать летописями в прямом смысле слова. Новый летописец (НЛ) был составлен ок. 1630 г., сохранился в многочисленных списках разного времени, к-рые можно разбить на 2 редакции: Академическую (или редакцию Овчинникова) и Ундольского (по В. Г. Вовиной-Лебедевой). В НЛ излагаются события, начиная с покорения Сибири Ермаком и заканчивая 1630 г. Большинство исследователей памятника (С. Ф. Платонов, Л. В. Черепнин, Вовина-Лебедева) считают, что НЛ вышел из офиц. кругов, предположительно связанных с патриархом Филаретом. Черепнин считал, что в работе участвовал Посольский приказ, хотя это мнение оспаривала Вовина-Лебедева. Андреев писал, что начальные статьи, повествующие о завоевании Сибири, попали в Москву при помощи Тобольского архиеп. Киприана (Старорусенкова; впосл. Новгородский митрополит) (Андреев); возможно, архиепископ был причастен к составлению их источника (Вовина-Лебедева). Л. Е. Морозова считает Киприана автором НЛ. На основе НЛ в результате дополнения его текста во 2-й пол. XVII в. составили многочисленные поздние редакции, напр. НЛ по списку Оболенского, «Летопись о многих мятежах» и др.
Нек-рые компилятивные летописцы сохранились в единичных списках. Так, список Пискарёвского летописца (ПЛ) 40-х гг. XVII в. был обнаружен О. А. Яковлевой. ПЛ содержит краткое изложение библейской и русской истории, наиболее ценными считаются его части, посвященные событиям XVI в., в т. ч. опричнине. Связный текст оканчивается известием о воцарении Михаила Романова, в заключительной части имеются сообщения о его смерти и воцарении Алексея Михайловича. Делались предположения, что памятник возник в 20-30-х гг. XVII в. в посадской среде и что к составлению причастны печатник Никита Фофанов (Тихомиров) или дьяк Нечай Перфильев (С. И. Хазанова), что ПЛ использовал воспоминания какого-то москвича, причастного к каменному строительству (Яковлева), что источником для ПЛ была НЛ (Морозова, оспорено Солодкиным), что оба памятника имели общие источники (Вовина-Лебедева). Хазанова предположила использование в ПЛ разрядных записей. Усачёв писал о связи ПЛ с нек-рыми памятниками XV-XVI вв.
Бельский летописец (БЛ) сохранился в единственном дефектном списке сер. XVII в. (ГИМ. Увар. Д. 569; начало утрачено). Составители, возможно, были близки к роду князей Прозоровских. Начинается БЛ с сообщения о смерти царя Феодора Иоанновича. БЛ доведен до 1632 г., примерно тогда же, вероятно, и составлен (Корецкий). Статья (возможно, добавленная др. составителем) о войне с Речью Посполитой в 1664 г. обрывается на фразе, наверное относящейся к 1667/68 г. Морозовский летописец (не опубл.) сохранился в единственном списке сер. XVIII в. (РНБ ОР. F.IV.228), содержит известия за 1380-1612 гг., основанные на Хронографе Кубасова с дополнениями, в т. ч. с уникальными известиями об опричнине. Московский летописец сохранился в одном списке, имеет сбитую хронологию: излагает основные события Смуты нач. XVII в., затем возвращается ко времени Иоанна III и последующим событиям до 1599 г. Содержит некоторые уникальные сведения о периоде царствования Иоанна IV и Феодора Иоанновича. Очевидно, был составлен после 1635 г., но до 1645 г. в среде московского духовенства (Солодкин) или служилых людей (Зимин). Среди источников выделяют многочисленные записи типа разрядных.
Во 2-й пол. XVII в., особенно в кон. XVII — нач. XVIII в., в разных городах России составлялись многочисленные компилятивные летописцы. Этим временем датируются списки НЛ в соединении со Степенной книгой, с Хронографом, «Повестью о Словене и Русе». Эти и др. неизданные рукописи можно расценивать как попытки создать связную «летопись» от начала Руси до современного составителям периода. Наиболее известный результат таких попыток — летописный Свод 1652 г. (не опубл., самые ранние списки: РНБ ОР. Вяз. Q.206; РНБ. Погод. 1406; РНБ. Q.IV.139; РГБ. Больш. № 423; ГИМ. Увар. № 543). Он был открыт Насоновым и подробно исследован Лаврентьевым, датировавшим его 1652-1658 гг. Свод 1652 г. основывался на Никоновской и Воскресенской летописях, житиях, исторических повестях, НЛ, дополненном некоторыми оригинальными известиями о Смуте. Лаврентьев полагал, что Свод 1652 г. отразил какую-то более раннюю, чем сохранившиеся, редакцию НЛ, но это не подтвердилось при последующем изучении памятника Вовиной-Лебедевой. Позднее был составлен Летописец 1686 г. (не опубл., наиболее ранние списки: РГАДА. Ф. 181. № 20/25; ГИМ ОР. Син. № 153; РГБ ОР. Ф. 256. № 413). Выделяют Пространную и Сокращенную редакции памятника, к-рый обосновывал идею исконной принадлежности малороссийских земель московским государям как наследникам рода Рюриковичей. В основе Летописца 1686 г. лежит НЛ с продолжением. По Черепнину, источником продолжения были документы Посольского приказа. С этим не согласился А. П. Богданов, который отнес создание Летописца 1686 г. к деятельности патриаршего скриптория. С патриаршим двором связаны и компилятивный Летописный свод 70-80-х гг. XVII в., составленный Варлаамом (Палицыным) (по Клоссу и Корецкому), и следующий за ним по содержанию Летописный свод 80-х гг. XVII в. В патриаршем скриптории возник Летописец 1619-1691 гг., сохранившийся в Пространной и Краткой редакциях; его значение — в содержащихся в тексте записях очевидца о событиях 2-й пол. XVII в.
Три фрагмента в тексте Летописца 1686 г. относятся к отдельному Летописцу Ф. Ф. Волконского (согласно Богданову). Существуют и другие частные (фамильные) летописцы служилых людей. Летописец Черкасских (ЛЧ) кон. XVII в. (не изд., единственный список 2-й пол. XVIII в.- РГАДА. Ф. 357. № 274) — историческое сочинение, соединившее части Синопсиса, НЛ, Хронографа 1617 г. (Богданов), или один из исторических сборников XVIII в. (А. Ю. Самарин). Внимание исследователей привлекли его известия о городских восстаниях сер. и 2-й пол. XVII в. Летописец Дашкова 80-х гг. XVII в. (единственный список 2-й пол. XVIII в. изготовлен для Эрмитажной б-ки -РНБ ОР. Эрм. № 567) связывают с патриаршим и государевым стольником А. Я. Дашковым, составившим его на основе Хронографа и Разрядной книги частной редакции. В Витебске в сер. XVIII в. на польск. языке с примесью белорусского витебскими мещанами была составлена т. н. Летопись Панцырного и Аверки с 974 по 1767 г. Мазуринский летописец (Маз.) сохранился в одном списке 80-х гг. XVII в. Он начинается с легендарных известий «Повести о Словене и Русе», изложение доходит до 1682 г. Очевидно, Маз. был связан с окружением патриарха Московского Иоакима (Савёлова). Основан на НЛ (или Своде 1652 г.), Хронографе 1617 г., разрядах, Хронике М. Стрыйковского и др. Содержит несколько оригинальных известий по XVII в. В тексте Маз. есть ссылка на один из его источников («…писано в другом летописце моем же Сидора Сназина»). Исходя из этого, исследователи памятника (Богданов и др.) считают служилого человека Сназина составителем Маз., хотя эта фраза, как считает Вовина-Лебедева, может указывать просто на принадлежность ему обоих летописцев. Беляевский летописец 1696 г. (единственный список — РГБ ОР. Ф. 29 (собр. Беляева). № 65/1754), по мнению Богданова, также вышел из патриаршего скриптория, текст начинается записью о смерти матери царя Михаила Феодоровича в 1631 г. и заканчивается статьей 1696 г., после чего помещена приписка о смерти Петра I Алексеевича; содержит некоторые оригинальные известия о событиях сер.- 2-й пол. XVII в. Из многочисленных кратких летописцев исследователи выделяют также «Летописец выбором» (не опубл., ранние списки — ОПИ ГИМ. Ф. 440 (колл. Забелина). № 20; РГБ ОР. Ф. 330. Карт. II. 57; РНБ ОР. Q.XVII.22) — сохранившийся в 20 списках текст, представляющий собой краткий перечень известий о событиях рус. истории с 1154 г. (перенесение Владимирской иконы Божией Матери во Владимир) до 2-й четв. XVII в. Текст представляет собой совокупность разного рода компиляций, имеющих некоторые общие признаки и восходящих к одному протографу, написанному посадским человеком или стрельцом (Богданов).
Местные (или городовые) летописи XVII — нач. XVIII в. составлялись в кругах, близких к канцеляриям воевод, или в крупных мон-рях. Встречаются и частные летописцы, в основном составленные посадскими людьми. Местные летописи являют собой смесь общерусских и местных известий. Набор последних стандартен: назначения и смены воевод (позднее губернаторов), а также игуменов мон-рей, приезд других должностных лиц, описания необычных природных явлений (бури, наводнения, сильные ледоходы, землетрясения и проч.) и бедствий (пожары, эпидемии), поступления царских грамот (иногда приводятся цитаты из них), проведение гос. ревизий и переписей населения. Отдельный ряд известий — это описания чудес местных святых; строительству церквей и монастырей часто посвящали сказания. Со временем общерус. события отражались в летописцах в виде кратких записей о новых царствованиях, рождениях и смертях особ царского рода, начале и конце войн и заключении мирных договоров. В качестве источников таких сообщений использовали в основном не более древние рукописи, а офиц. сообщения, а в летописцах XVIII в.- иногда даже печатные издания по рус. истории.
Ермак отпускает Кутугая. Миниатюра из Ремезовской летописи. 1744 г. Худож. С. У. Ремезов (БАН. 16.16.5. Л. 11)
Ермак отпускает Кутугая. Миниатюра из Ремезовской летописи. 1744 г. Худож. С. У. Ремезов (БАН. 16.16.5. Л. 11)
Сибирские летописи — большая группа связанных между собой летописных текстов, рассказывающих о завоевании Сибири казаками Ермака и последующем освоении рус. людьми этих территорий; в них описаны народы, проживавшие в Сибири, реки и дороги, рыбы и звери. Во всех известных сибир. летописях содержатся различные варианты таких рассказов. С. В. Бахрушин полагал, что все сибир. летописи восходят к единой основе, а именно к записям показаний ветеранов похода Ермака, собранных в Тобольске по приказу архиеп. Тобольского Киприана (Старорусенкова) для составления синодика казаков Ермака (казачье «Написание»). Вопрос о первичности одних сибир. летописей по отношению к другим неоднократно ставился в литературе, но единой т. зр. у исследователей нет. Предлагалось считать в качестве основы Румянцевский летописец (Дергачёва-Скоп, Лаврентьев), Погодинский летописец (Е. К. Ромодановская) и др. Есиповская летопись (Есип.) — единственный точно датированный текст, составленный в 1636 г. в Тобольске архиепископским дьяком Саввой Есиповым. Сохранилась в большом количестве списков и в неск. редакциях, из к-рых выделяют Основную и Распространенную. Строгановская летопись сохранилась в единственном списке, созданном (судя по филиграням) в 20-х гг. XVII в. в вотчине Строгановых. Она содержит особую версию о начале похода Ермака, отличающуюся от Есип. и др. Есипов стремился показать Ермака христ. просветителем Сибири, по собственному почину отправившимся покорять языческие народы. Составитель Строгановской летописи, наоборот, выставил главными инициаторами и организаторами похода торговых людей Строгановых. Румянцевский летописец (РЛ) существует в 2 видах: А и Б, дополненном выдержками из НЛ. По мнению Дергачёвой-Скоп, в основе РЛ лежит повесть «О Сибири» (ее источник — Есип.). Погодинский летописец сохранился в единственном списке кон. XVII в. и считался переработкой Есип., но Ромодановская привела аргументы в пользу того, что он восходит к протографу, более раннему, чем Есип., т. е. к «Написанию» (поддержаны А. Т. Шашковым). Автором этого раннего текста (по Ромодановской), вероятно, был казак Черкас Александров. Абрамовский летописец («Летописец Тобольский о Сибирской стране») известен в 2 списках, имеющих большое сходство с Есип., но вопрос о первичности этой летописи в отношении протографа Абрамовского летописца не решен. Кроме того, в Абрамовском летописце читаются известия, имеющие народную основу. К более поздним летописным памятникам Сибири относится Сибирский летописный свод (СЛсв.) — офиц. летопись (основанная на Пространной редакции Есип.), которая велась в Тобольске в кругах, близких к воеводской канцелярии и митрополичьему двору. СЛсв дошел в неск. редакциях (по Н. А. Дворецкой), некоторые носят особые названия («Книга записная», «Записки, к сибирской истории служащие», «Описание о поставлении городов и острогов в Сибири» и др.). Наиболее ранняя редакция СЛсв. составлена в 1687 г. Др. редакции продолжают изложение до сер. XVIII в. Одна из них уделяет особое внимание томским воеводам. Ремезовская летопись (Ремез.), или «История Сибирская», была написана тобольским сыном боярским Семеном Ульяновичем Ремезовым ок. 1703 г., сохранилась в оригинале и копии XVIII в., снабжена 154 черно-белыми миниатюрами. В основу ее положена Есип., устные легенды, а также более древняя Кунгурская летопись (названная им так по месту обнаружения, вставлена в текст Ремез.). Частные сибирские летописи составлялись и позднее. Так, в Тобольске ок. 1760 г. окончил свой труд ямщик Илья Черепанов. Черепановская летопись охватывает события с 1578 по 1760 г., основана на СЛсв., Есип., Ремез. и др. источниках, офиц. бумагах из Сибирской губ. канцелярии, устных известиях, а также использует выдержки из трудов Г. Ф. Миллера. Иркутская «Летопись П. И. Пежемского» начинается с 1652 г. (основание Иркутска) и оканчивается 1807 г., отличается подробностью изложения событий. Автор использовал печатные источники, офиц. сообщения, публикации в «Сибирском вестнике», воспоминания старожилов Иркутска. Некоторые документы приводятся в тексте целиком. Об отдельных известиях сказано, что они взяты «из летописи». Составленная также в Иркутске «Летопись В. А. Кротова» начинается с 1807 г. и заканчивается 1856 г. Очевидно, автор пользовался теми же источниками, что и Пежемский или сходными.
Др. большая группа местных летописей — новгородские. Неопубликованная Новгородская Корнильевская летопись (Корнил.) составлена в 60-х гг. XVII в. Основной текст доведен до 1646 г., но имеется ряд позднейших дополнений. В ее основе лежат Н1, Н2, Н4, С1 и др. источники (единственный список — БАН. 34.4.1). На Корнил. опиралось все последующее новгородское Л. Особенно интенсивно летописная работа велась в Новгороде с 70-х гг. XVII в. до 1689 г. Вариант Корнил.- неопубликованная Новгородская Уваровская летопись (сохр. 2 списка). Новгородская 3-я летопись (НЗ) основана на Корнил., связана с деятельностью Новгородского митрополичьего двора (по Азбелеву; В. В. Яковлев оспорил эту т. зр.), известна во мн. списках и 2 редакциях: в Пространной 70-80-х гг. XVII в. (по Азбелеву) или после 1692 г. (по Яковлеву), в Краткой (1682-1690, по Азбелеву; кон. XVII в., по Яковлеву). Новгородские события в памятнике превалируют над общерусскими (некоторые списки продолжают текст до нач. XVIII в.). Неопубликованная полностью Новгородская Забелинская летопись (НЗЛ) названа по основному списку (ГИМ. Забелин. № 261). Это обширная компиляция, охватывающая период с начала становления Руси до 1679 г., составлена в Новгороде на основе НЗ (Азбелев) или Корнил. (Яковлев) с дополнениями не позднее 1681 г. (Черепнин, Азбелев) или в период с сер. 80-х до нач. 90-х гг. XVII в. (Яковлев). В нач. XVIII в. летописная работа продолжалась при дворе митр. Иова, известного просветительской деятельностью. Новгородская Погодинская летопись (Погод.) сохранилась в 30 списках (архетипный список РНБ ОР. Погод. № 1411), в некоторых текст доведен до 1716 г., в других — до нач. XIX в., в основу положены НЗЛ, др. новгородские источники, «Казанская история».
Еще одна группа — летописи Русского Севера. Устюжский летописец, составленный на основе Устюжской летописи 1-й четв. XV в., существует в 2 редакциях: 1-я оканчивается на 1677 г., 2-я охватывает события 1192-1745 гг. Последнее сообщение — о пожаре в Устюге, во время к-рого растопился медный колокол Воскресенской ц. Летописец был составлен в устюжском во имя арх. Михаила монастыре. Использован в качестве основного источника летописец 1679-1680 гг. Летописец Льва Вологдина (ЛЛВ) был составлен в 1765 г. священником устюжского Успенского кафедрального собора (сохр. автограф и много списков XVIII-XIX вв.). Начинается с 1192 г., общерус. известия заимствованы из «Краткого Российского летописца с родословием» М. В. Ломоносова; основным источником был Устюжский летописец 1746 г., дополненный известиями др. летописцев. Существует 2-я редакция, доходящая до 1779 г. ЛЛВ был использован штаб-лекарем Я. Я. Фризом для составления в 1793 г. «Исторического и физического описания областного города Устюга Великого». Летописец Ивана Слободского составлен в 1716 г. певчим Вологодского архиерейского дома, содержит исключительно местные известия, сохранился в 2 редакциях (нач. 1147 г., окончание соответственно — 1676 г. и 1654 г.). Редакция 1654 г. составлена не ранее 1782 г. Вологодский летописец известен в одной рукописи, охватывает события с 862 по 1770 г. Очевидно, составлен в Спасо-Прилуцком мон-ре. До кон. XV в. текст близок к Погодинской летописи, далее — к нек-рым общерус. летописцам XVII в. Двинской летописец, составленный в Холмогорах в 70-80-х гг. XVII в., известен в неск. редакциях. Охватывает события с 1397 по 1682 г. Ряд списков Краткой редакции, связанной с воеводской канцелярией, продолжает текст, описывающий в основном местные события 1682-1705 гг. Пространная редакция, исходящая из окружения архиепископа, оканчивается на 1750 г. Среди событий XVIII в. подробно рассказано о приезде царя Петра I в 1702 г. в Холмогоры и об освящении в его присутствии новой церкви в Архангельске. Подробно перечислены выборы бурмистров в городскую ратушу и выборы в городской магистрат. Пинежский летописец (открыт А. И. Копаневым) составлен в 1661-1667 гг. в семье крестьян-староверов Поповых, известен в 2 списках. Использует разнообразные источники о Смуте, в т. ч. «Сказание» Авраамия (Палицына), включает также оригинальные местные известия.
К кратким монастырским летописцам XVII в. относятся, напр., Летописец Кириллова Белозерского мон-ря 1604-1617 гг., наиболее известный Соловецкий летописец (Летописец Соловецкого мон-ря), повествующий о событиях с начала построения обители, о Зосиме, Савватии и Германе Соловецких, и далее в тексте, расположенном по годам смены игуменов, описываются монастырское строительство, царские пожалования монастырю, Соловецкое восстание 1667-1676 гг., посещение мон-ря Петром I. Последнее известие за 1759 г.- о смерти архиеп. Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия. Одна из редакций продолжает текст до 1814 г. Последнее известие — о выведении из мон-ря артиллерии и орудий в Новодвинскую крепость.
Летописец Соловецкий. 2-я пол. 90-х гг. XVIII в. (НБРК. Инв. № 45614р. Л. 1)
Летописец Соловецкий. 2-я пол. 90-х гг. XVIII в. (НБРК. Инв. № 45614р. Л. 1)
Соликамская летопись появилась в соликамском во имя Св. Троицы мужском монастыре в XVII в. и велась мн. лицами до кон. XVIII в.; начинается с описания местоположения Чердыни и Соли-Камской, затем идет ряд кратких общерус. известий с 990 г., более подробно даны местные известия начиная с 1579 г. С кон. XVII — нач. XVIII в. записи велись по годам. Последнее сообщение — об упразднении в Соли-Камской мон-ря и о переносе его в Пермь. Одновременно при Богоявленской ц. в Соли-Камской велась др. летопись, повествующая о событиях с нач. XVIII в. Обе были опубликованы А. А. Дмитриевым. Первое известие этой более поздней Соликамской летописи — 1158 г., затем упомянуты краткие общерус. известия об истории возникновения Пыскорского мон-ря, о набегах татар и вогулов на пермские городки, а также местные известия за XVII-XVIII вв., в т. ч. о Пугачёвском бунте и движении в его поддержку, о сражении под Кунгуром; последние известия — под 1781 г. Далее снова следуют местные записи с 1741 по 1824 г. Очевидно, после 1781 г. летопись была дополнена и переделана др. лицом. Кроме этого, в Соли-Камской составляли летописные сочинения Савватий и Никита Арефины, а также Василий Лучников, известные по выборке из этих текстов, напечатанной В. Н. Берхом. Эти частные летописи соликамских граждан начинались с Сотворения мира и продолжались до времени жизни их создателей. О Лучникове известно, что он умер в 1803 г. Отец и сын Арефины жили в 1-й пол. XVIII в.
В мон-рях составляли и др. поздние летописцы; напр., Летопись Боголюбова мон-ря, опубликованная П. А. Гильтебрандтом (1879), содержит краткие известия за 1158-1770 гг. По мнению издателя, она была составлена на основании монастырских актов и записей игум. Аристархом. Черниговская летопись известна в 3 списках, доведенных до 1725 и 1750 гг. Она начинается сообщением об избрании в 1587 г. Сигизмунда III Вазы польск. королем и состоит из неск. частей, которые, как полагают, писал один человек (очевидно, на Правобережье Украины) до 1703 г., затем продолжали другие, и последняя часть была составлена еще кем-то в Чернигове. Межигорская летопись содержит ряд кратких сообщений о Межигорском в честь Преображения Господня мужском монастыре; она была составлена в этой обители, возможно настоятелем Илией (Кощаковским). Летопись Подгорецкого мон-ря представляет вариант синопсиса, содержит выписки из документов, известия о местных монастырских событиях (текст до 1715 г., затем имеются записи 1726 и 1729 гг.). Запись 1729 г.- о смерти игум. Парфения (Ломиковского), при к-ром эта летопись и могла быть составлена. Известна еще Краткая летопись о событиях в Новороссии с 1765 по 1806 г., неизвестно кем составленная, она касается как местных, так и общерус. известий.
Нижегородский летописец по неск. спискам был издан в XIX в. А. С. Гациским. Как выяснила позднее М. Я. Шайдакова, существуют 2 летописных памятника, к-рые следует различать: «Летописец о Нижнем Новгороде» (ЛНН, 3 списка) и собственно «Нижегородский летописец» (НижЛ, 29 списков, неск. редакций). ЛНН был создан в 50-х гг. XVII в. и представляет собой выписки из общерус. летописи с добавлением местных известий (со статьи об основании Н. Новгорода до статьи о моровом поветрии 1654 г.). НижЛ составлен не ранее 1655 г. в кругу нижегородского духовенства на основе ЛНН, Хронографа 1617 г., Воскресенской летописи и Степенной книги (в 2 частях: с основания города до 1422; в 1509-1540 с добавлением различных текстов в разных списках в основном местного содержания за XVII в., в поздних редакциях текст доходит до сер. XVIII в.).
Л. на Вятке известно по нескольким редакциям «Повести о стране Вятской» (ПСВ), созданной в нач. XVIII в. в Хлынове и являвшейся компиляцией разного рода книжных и устных местных легенд; возможно, памятник составлен на основе какой-то местной летописи. ПСВ состоит из 4 частей. Собственно вятские известия начинаются со 2-й части, 1-я редакция к-рой — «Сказание о вятчанех» (по Д. К. Уо) связана с именем местного книжника С. Ф. Попова. Третья часть повествует о начале почитания иконы свт. Николая Великорецкого. Четвертая часть представляет собой отдельные летописные записи о Вятке (с 1389 по 1553). Еще одним вариантом краткого местного летописца является Слободская летопись (РНБ. F.IV.844, список сер. XVIII в.), доведенная до 1698 г.
Т. о., Л. продолжалось и в XVIII в., и частично в нач. XIX в. Постепенно характер поздних летописей менялся. Они теряли прежнее гос., политическое значение, что отражалось и на точности воспроизводимых известий. Мн. летописцы XVII в., а тем более XVIII в. изобилуют ошибками и искажениями из-за небрежности в соединении источников. Все больше проявляется компилятивная природа Л. Поздние летописцы уже не являются летописными сводами, в к-рых каждый последующий автор продолжал труд своего предшественника. Они часто составлялись единовременно одним человеком, были посвящены отдельным сюжетам и в этом смысле перенимали мн. особенности исторической повести, получившей особенное развитие после Смуты нач. XVII в. В эпоху Петра I предпринимались новые попытки составить общерус. летопись: напр., появилась «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии», которая охватывает события до смерти Петра I. Это компиляция отрывков разных текстов: извлечений из «Повести о Словене и Русе», кратких известияй о первых Рюриковичах и происхождении царского венца, известий до времен Иоанна Грозного, фрагментов «Казанской истории», смеси известий русских и иностранных источников о событиях XVII в. Особое внимание уделено Чигиринским, Крымским, Азовским походам, стрелецким бунтам. В текст включены краткий «реестр» основных событий царствования Петра I, записанных по годам, а также таблица потерь рус. армии в сражениях при Лесной (1708) и под Полтавой (1709). Предполагается, что эта летопись была составлена Г. Г. Скорняковым-Писаревым (Насонов), очевидно, по указанию царя и является одной из попыток создать офиц. летописную историю его царствования. Др. такой попыткой было создание летописной «истории» Федора Поликарпова. Но крупнейшие сочинения о прошлом («Скифская история» А. И. Лызлова 1692 г., «Синопсис» архим. Иннокентия (Гизеля) и др.) с кон. XVII в. написаны уже в иной, нелетописной манере.
В. Г. Вовина-Лебедева, А. Е. Жуков
Л. в Великом княжестве Литовском
(ВКЛ). Первые памятники Л. на восточнослав. землях ВКЛ были составлены в XV в. на основе памятников Л., создававшихся в Сев.-Вост. Руси. В составе этих первых компиляций сохранился летописец, созданный в окружении митр. Киевского Фотия, содержащий сведения о его поездках на земли ВКЛ в 1412-1427 гг. В этих же компиляциях есть краткие известия о митр. Киевском Герасиме. Создававшиеся в XVI в. на основе этих компиляций (с продолжением описания XVI в.) официальной летописи ВКЛ к.-л. известий, касавшихся жизни православного населения на землях княжества, не содержат. Только составленная, видимо, в нач. XVI в. «Волынская краткая летопись» содержит ряд известий о церковной жизни на Волыни и в ВКЛ на рубеже XV и XVI вв., гл. обр. связанных с возведением на Киевский митрополичий стол Макария (Чёрта), а затем Иосифа (Болгариновича).
Положение стало меняться к кон. XVI в., когда появился ряд местных летописей, составители к-рых уделяли внимание церковной жизни. Один из таких источников — «Баркулабовская летопись», написанная приходским священником городка Баркулабова в районе Могилёва. В ней есть известия о событиях местной церковной жизни и даже о реакции местных жителей на попытки введения нового календаря, на переход епископов в унию. Летопись содержит подробное описание работы правосл. Собора в Бресте 1596 г.
Главный памятник украинского Л.- «Густынская летопись», созданная в 20-х гг. XVII в. в окружении архим. Киево-Печерской лавры Захарии (Копыстенского). В этом летописном своде рассказывается о событиях, происходивших в Вост. Европе с древнейших времен до нач. XVI в. Заканчивается летопись на известиях 1597 г.; по одной из гипотез, 1-я версия завершалась 1515 г. Ее источниками были текст Ипатьевской летописи, а также какая-то великорус. летопись (не ранее XVI в.), известия различных европ. и польск. хроник. Летопись содержала подробный рассказ о Ферраро-Флорентийском Соборе (с правосл. т. зр.), а в конце к своду был присоединен обширный рассказ «О унии, како почася в Руской земле», к-рый заканчивался сообщением об аресте протосинкелла Никифора.
Памятник местного происхождения, описывающий монастырскую жизнь на Левобережье в 1-й пол. XVII в.,- «Летописец Густынского монастыря», который включает уникальный рассказ о восстановлении правосл. иерархии в 1620-1621 гг. в Киевской митрополии. Фрагменты таких памятников местного происхождения входили в состав разного рода летописных компиляций. В одной из них сохранился летописный фрагмент с сообщениями о событиях церковной жизни Киева, в т. ч. о попытках принудить население принять унию после смерти кн. К. К. Острожского в 1608 г. В «Острожском летописце» сохранились записи об основании правосл. обителей на Волыни в нач. XVII в., о репрессиях, сопровождавших принуждение населения Острога к унии. Некоторые известия о событиях церковной жизни встречаются во «Львовской летописи» — наиболее крупном местном повествовании о событиях, происходивших на Украине в 20-40-х гг. XVII в. Здесь рассказывается о разорении польским войском киевских мон-рей во время восстания 1630 г., о посвящении свт. Петра (Могилы) во Львове.
Среди укр. летописей 2-й пол. XVII — нач. XVIII в. наиболее ранний памятник — «Летопись Самовидца», написанная духовным лицом, протопопом, служившим сначала в Брацлаве, а затем в Стародубе. Однако события церковной жизни получили в этом тексте слабое отражение. Автор даже не всегда отмечает смены на Киевском митрополичьем столе. Те или иные высокопоставленные представители духовенства гл. обр. упоминаются, когда они принимают участие в политической борьбе.
Лишь с 70-х гг. XVII в. в источнике появляются сообщения о нек-рых событиях церковной жизни, связанных в основном со Стародубом. Особый интерес представляет рассказ о поездке автора как посла митр. Иосифа (Тукальского) к К-польскому патриарху (1670). «Летопись Самовидца» послужила одним из главных источников важнейшего памятника укр. Л. 1-й пол. XVIII в.- «Летописи» Грабянки. Как показано в работах А. М. Бовгири, краткая редакция памятника была составлена духовным лицом, уделявшим внимание событиям церковной жизни. Эта редакция, однако, остается неизданной, а в Пространной редакции памятника, к-рую теперь связывают с именем Грабянки, этот материал подвергся сильному сокращению.
Особое место среди этих памятников занимает «Летопись» С. Величко, к-рый отвел заметное место описанию событий церковной жизни на Украине (гл. обр. на Левобережье) во 2-й пол. XVII в. Часть сведений он заимствовал из сочинений церковных писателей того времени (прежде всего Иоанникия (Галятовского)), но часть восходит к неизвестным источникам, как, напр., известия о Мгарском мон-ре. В 1690 г. Величко стал служащим гетманской канцелярии, и это дало ему возможность включить в свою летопись большое количество грамот 90-х гг. XVII в., отражающих борьбу против распространения унии, отношения патриарха Московского со светской и с церковной властью на Левобережной Украине, местных иерархов с гетманской властью и представителями Вост. Церквей.
Для более позднего времени должна быть отмечена составленная в XVIII в. в Могилёве «Хроника» Т. Р. Сурты и Ю. Трубницкого. В ней помещены известия о возвращении в 1633 г. православным в Могилёве храмов, к-рые были закрыты в течение 20 лет, и о восстановлении их при помощи Огинских, о митр. Иосифе (Тукальском) и о его заключении в Мальборке, о приезде в Могилёв в 1699 г. еп. Серапиона (Полховского), о его смерти и похоронах в 1704 г., о приезде еп. Сильвестра (Святополк-Четвертинского) в 1707 г., о репрессиях против униатов царя Петра I Алексеевича в Полоцке, об ограблении шведами в 1708 г. храмов в Могилёве; далее содержатся известия, связанные с деятельностью еп. Иеронима (Волчанского) в 40-х гг. XVIII в.
Б. Н. Флоря
Изд. (избранные): Летописец, содержащий в себе Российскую историю от 6390/852 до 7106/1598 г., т. е. по кончину царя и вел. кн. Феодора Иоанновича. М., 1781; Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. СПб., 1789. Ч. 1-2; 1799. Ч. 3-4; Летописец Соловецкого мон-ря. М., 1790; Летописец Соловецкий, или Краткое летописание. М., 1815; Полное собрание русских летописей. СПб., 1846-1921. Т. 1-24; М.; Л.; СПб., 1949-1994. Т. 25-39; М., 1994-2008. Т. 40-43. См. также: ПВЛ. Т. 1: Лаврентиевская и Троицкая летописи. СПб., 1846; Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. Л., 19282. Вып. 1; Л., 1927. Вып. 2; М., 1962, 19973. Вып. [1-2]; Т. 2: Ипатиевская и Густынская летописи. СПб., 1843; Ипатьевская летопись. СПб., 19082. М., 1962, 1997-1998р; Т. 3: Новгородские летописи. СПб., 1841. Новгородская 1-я летопись старшего и младшего изводов. М., 2000р; Т. 4: Новгородские и Псковские летописи. СПб., 1848. Вып. 1-3: Новгородская четвертая летопись. Пг.; Л., 1915-19292; Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвертая летопись. М., 2000р; Т. 5: Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851; Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003р; Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000р; Т. 6: Софийские летописи. СПб., 1853; Т. 6. Вып. 1: Софийская 1-я летопись старшего извода. М., 2000р; Софийская 2-я летопись. М., 2001р; Т. 7-8: Летопись по Воскресенскому списку. СПб., 1856-1859; Т. 8: Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001р; Т. 9-12: Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою, летописью. СПб., 1862-1901, 2000р; Патриаршая, или Никоновская, летопись. М., 1965; Т. 13: То же. Доп. к Никоновской летописи. Так называемая Царственная книга. СПб., 1906. М., 1965, 2000р; Т. 14. [Ч.] 1: «Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси». [Ч.] 2: «Новый летописец». СПб., 1910. М., 1965; Т. 15: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. СПб., 1863. М., 1965; Т. 15. Вып. 1: Рогожский летописец. Пг., 19222. М., 1965. Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000р; Т. 16: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. СПб., 1889. М., 2000р; Т. 17: Западнорусские летописи. СПб., 1907. М., 2008р; Т. 18: Симеоновская летопись. СПб., 1913. М., 2007 р; Т. 20: Львовская летопись. СПб., 1910-1912. 2 ч.; Т. 22: Русский хронограф. Ч. 1: Хронограф ред. 1512 г. СПб., 1911; Ч. 2: Хронограф западнорусской редакции. Пг., 1914; Т. 23: Ермолинская летопись. СПб., 1910. М., 2004р; Т. 24: Типографская летопись. Пг., 1921. М., 2000р; Т. 25: Московский летописный свод кон. XV в. М.; Л., 1949. М., 2004р; Т. 26: Вологодско-Пермская летопись. М.; Л., 1959, 2006р; Т. 27: Никаноровская летопись. М.; Л., 1962; Т. 27: Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в. М., 2007р; Т. 28: Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). М.; Л., 1963; Т. 29: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. М., 1965; Т. 30: Владимирский летописец. Новгородская 2-я (Архивная) летопись. М.; Л., 1965; Т. 31: Летописцы последней четверти XVII в. М.; Л., 1968; Т. 32: Хроники: Литовская, Жмойтская и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцирного. М.; Л., 1975; Т. 33: Холмогорская летопись. Двинский летописец. М., 1977; Т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы. М., 1978; Т. 35: Летописи белорусско-литовские. М., 1980; Т. 36: Сибирские летописи. Ч. 1: Группа Есиповской летописи. М., 1987; Т. 37: Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. М., 1982; Т. 38: Радзивиловская летопись. Л., 1989; Т. 39: Софийская 1-я летопись по списку И. Н. Царского. М., 1994; Т. 40: Густынская летопись. СПб., 2003; Т. 41: Летописец Переславля Суздальского (Летописец русских царей). М., 1995; Т. 42: Новгородская Карамзинская летопись. СПб., 2002; Т. 43: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. М., 2004; Величко С. В. Летопись событий в Юго-Зап. России. К., 1848-1864. 4 т.; Летопись Григория Грябянки. К., 1854; Южнорусские летописи / Изд.: Н. М. Белозерский. К., 1856. Т. 1; Летопись Боголюбова мон-ря / Изд.: П. А. Гильтебрандт // ДНР. 1879. Т. 2. № 7. С. 257-264; Соликамские летописи / Изд.: А. А. Дмитриев. Пермь, 1884; Нижегородский летописец / Изд.: А. С. Гациский. Н. Новг., 1886; Сб. летописей, относящихся к истории Юж. и Зап. Руси. К., 1888; В[ерещаги]н А. [С.]. Повесть о стране Вятской // Тр. Вятской УАК. 1905. Вып. 3. С. 1-97; Сибирские летописи. СПб., 1907; Иркутская летопись: Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова. Иркутск, 1911. Вып. 1: 1652-1856; 1914. Вып. 2: 1857-1880. (Тр. Вост.-Сиб. отд. РГО; № 5, 8); Псковские летописи / Подгот. к печ.: А. Н. Насонов. М.; Л., 1941. Вып. 1; 1947. Вып. 2; Зимин А. А. Краткие летописцы XV-XVI вв. // ИА. 1950. Т. 5. С. 9-39; Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. СПб., 20022; Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец) / Ред.: К. Н. Сербина. М.; Л., 1950; Насонов А. Н. Летописный свод XV в. (по 2 спискам) // Мат-лы по истории СССР. М., 1955. Т. 2. С. 273-321 («Летописец русский»); Вычегодско-Вымская летопись // Историко-филол. сб. / АН СССР. Коми филиал. Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 257-271; Иоасафовская летопись / Ред.: А. А. Зимин, С. А. Левина. М., 1957; Новгородская харатейная летопись / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1964; Бевзо О. А. Львiвський лiтопис i Острозький лiтописец. К., 1971; Лiтопис самовидця. К., 1971; Копанев А. И. Пинежский летописец // Рукописное наследие Др. Руси: По мат-лам Пушкинского дома. Л., 1972. С. 57-91; The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and Četvertyns’kyj (Pogodin) Codices / Introd.: O. Pritsak. Camb. (Mass.), 1990. Факс.; Радзивиловская летопись / Отв. ред.: М. В. Кукушкина. СПб.; М., 1994. 2 т. Факс.; Столярова Л. В. Записи ист. содержания XI-XIV вв. на древнерус. пергаменных кодексах // ДГВЕ, 1995 г. М., 1997. С. 3-79; Уо Д. К. К истории вятского летописания // In memoriam: Сб. памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 303-320; Галицько-Волинський лiтопис: Дослiдження. Текст. Комент. / Ред.: М. Ф. Котляр. К., 2002; Бобров А. Г. Летописание Вел. Новгорода 2-й пол. XV в. // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 109-121; Конявская Е. Л. Новгородская летопись XVI в. из собр. Т. Ф. Большакова // НИС. 2005. Вып. 10(20). С. 322-383; Шайдакова М. Я. Нижегородские летописные памятники XVII в. Н. Новг., 2006. С. 127-266; Кистерёв С. Н. Ефросин и «Роуский летописец» // Летописи и хроники: Новые исслед., 2008. М.; СПб., 2008. С. 94-123; Новгородская первая летопись: Берлинский список / Предисл.: А. В. Майоров. СПб., 2011. Факс.; Гимон Т. В., Орлова-Гимон Л. М. Летописный источник ист. записей на пасхалии в ркп. РГБ. 304.I.762 (XV в.) // Источниковедческие исслед. М., 2014. Вып. 6. С. 54-79.
Лит. (избр.): Шлёцер А.-Л. Нестор: Рус. летописи на древлеславенском яз. СПб., 1809-1819. 3 ч.; Погодин М. П. Нестор: Ист.-крит. рассуждение о начале рус. летописей. М., 1839; Сухомлинов М. И. О древней рус. летописи как памятнике литературном. СПб., 1856; Бестужев-Рюмин К. Н. О составе рус. летописей до кон. XIV в.: Повесть временных лет. Летописи южнорусские. СПб., 1868; Маркевич А. И. О летописях: Из лекций по историографии. Од., 1883. Вып. 1; Шахматов А. А. Разбор соч. И. А. Тихомирова «Обзор летописных сводов Руси северо-восточной». СПб., 1899; он же. Общерус. летописные своды XIV и XV вв. // ЖМНП. 1900. Ч. 331. № 9. Отд. 2. С. 90-176; Ч. 332. № 11. С. 135-200; 1901. Ч. 338. № 11. С. 52-80; он же. О так называемой Ростовской летописи. М., 1904; он же. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908; он же. Обозрение рус. летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л., 1938; он же. История рус. летописания. СПб., 2002. Т. 1. Кн. 1; 2003. Кн. 2; 2011. Т. 2; Пресняков А. Е. Архивский летописец // Памяти Л. В. Майкова. СПб., 1902. С. 1-14; Розанов С. П. Хронограф редакции 1512 г. // ЛЗАК. 1907. Вып. 18. С. 1-16 (отд. паг.); Степанов Н. В. Единицы счета времени (до XIII в.) по Лаврентьевской и 1-й Новгородской летописям // ЧОИДР. 1909. Кн. 4. С. 1-74; Святский Д. О. Астрономические явления в рус. летописях с научно-крит. точки зрения. Пг., 1915 (переизд.: Он же. Астрономия Др. Руси: С кат. астрономических известий в рус. летописях, сост. М. Л. Городецким. М., 2007); Истрин В. М. Замечания о начале рус. летописания: По поводу исслед. А. А. Шахматова // ИОРЯС. 1921. Т. 26. С. 45-102; 1924. Т. 27. С. 207-251; Перфецкий Е. Ю. Рус. летописные своды и их взаимоотношения. Братислава, 1922; Лавров Н. Ф. Заметки о Никоновской летописи // ЛЗАК. 1927. Вып. 1(34). С. 55-90; Насонов А. Н. Летописные памятники Тверского княжества // ИАН. Сер. 7. 1930. № 9. С. 709-772; он же. Из истории псковского летописания // ИЗ. 1946. Т. 18. С. 255-294 (То же // ПСРЛ. М., 2003. Т. 5. Вып. 1. С. 9-44); он же. О тверском летописном мат-ле в рукописях XVII в. // АЕ за 1957 г. М., 1958. С. 26-40; он же. Новые источники по истории Казанского «взятия» // Там же за 1960 г. М., 1962. С. 3-26; он же. История рус. летописания: XI — нач. XVIII в.: Очерки и исслед. М., 1969; Присёлков М. Д. История рус. летописания XI-XV вв. Л., 1940. СПб., 19962; Лихачёв Д. С. Рус. летописи и их культурно-ист. значение. М.; Л., 1947; Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII в. // ИЗ. 1945. Т. 14. С. 81-128; Сербина К. Н. Устюжский летописный свод // ИЗ. 1946. Т. 20. С. 239-270; она же. Устюжское летописание XVI-XVIII вв. Л., 1985; Ерёмин И. П. Киевская летопись как памятник лит-ры // ТОДРЛ. 1949. Вып. 7. С. 67-97; Бахрушин С. В. Науч. тр. М., 1955. Т. 3. Ч. 1; Левина С. А. О времени составления и составителе Воскресенской летописи // ТОДРЛ. 1955. Т. 11. С. 375-379; она же. К изучению Воскресенской летописи // Там же. 1957. Т. 13. С. 689-705; она же. Списки Воскресенской летописи // ЛиХ, 1984 г. М., 1984. С. 38-58; Азбелев С. Н. Две редакции Новгородской летописи Дубровского // НИС. 1959. Вып. 9. С. 219-228; он же. Новгородские летописи XVII в. Новгород, 1968; Марченко М. i. Украïнська iсторiографiя. К., 1959; Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. М.; Л., 1960. Вып. 1; Бережков Н. Г. Хронология рус. летописания. М., 1963; Рыбаков Б. А. Др. Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963; он же. Рус. летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972; Покровская В. Ф. Из истории создания Лицевого летописного свода 2-й пол. XVI в. // Мат-лы и сообщ. по фондам Отд. рукописной и редкой книги БАН. М., Л., 1966. С. 5-19; Лимонов Ю. А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967; Флоря Б. Н. Коми-Вымская летопись // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 218-231; Чамярыцкi В. А. Беларускiя летапiсы, як помнiкi лiт-ры: Узнiкненне i лiт. гiсторыя першых зводаў. Мiнск, 1969; Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба лит. произведения в Др. Руси. М., 1971; он же. К типологии текстов «Повести временных лет» // Источниковедение отеч. истории, 1975. М., 1976. С. 133-162; Дзира Я. I. Самiйло Величко та його лiтопис // Iсторiографiчнi дослiдження в Укр. РСР. К., 1971. Вып. 4. С. 198-223; Прохоров Г. М. Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи // ВИД. 1972. Вып. 4. С. 77-104; он же. Летописные подборки рукописи ГПБ, F.IV.603 и проблема сводного общерус. летописания // ТОДРЛ. 1977. Т. 32. С. 165-198; он же. Радзивиловский список Владимирской летописи по 1206 г. и этапы владимирского летописания // Там же. 1989. Т. 42. С. 53-76; он же. Мат-лы постатейного анализа общерус. летописных сводов: (Подборки Карамзинской рукописи, Софийская 1, Новгородская 4 и Новгородская 5 летописи) // Там же. 1999. Т. 51. С. 137-205; Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974; Андреев Н. Е. О характере 3-й Псковской летописи // Russia and Orthodoxy: Essays in honor of Georges Florovsky. The Hague, 1975. Vol. 2. P. 117-158; Буганов В. И. Отечественная историография рус. летописания. М., 1975; Grabmüller H.-J. Die Pskover Chroniken: Untersuch. zur russischen Regionalchronistik im 13.-15. Jh. Wiesbaden, 1975; Клосс Б. М., Лурье Я. С. Рус. летописи XI-XV вв. // Метод. рекомендации по описанию слав.-рус. рукописей для сводного кат. рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 78-139; Лурье Я. С. Общерус. летописи XIV-XV вв. Л., 1976; он же. Холмогорская летопись // ТОДРЛ. 1970. Т. 25. С. 135-149; он же. Две истории Руси XV в.: Ранние и поздние, независимые и офиц. летописи об образовании Моск. гос-ва. СПб., 1994; он же. История России в летописании и в восприятии Нового времени // Он же. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 11-172; Творогов О. В. Повесть временных лет и Начальный свод: Текстол. коммент. // ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 3-26; Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерус. летописания. М., 1977; Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII в. Днепропетровск, 1978; Тихомиров М. Н. Рус. летописание. М., 1979; Клосс Б. М. Никоновский свод и рус. летописи XVI-XVII вв. М., 1980; он же. Список Царского Софийской I летописи и его отношение к Воскресенской летописи // ЛиХ, 1984. М., 1984. С. 25-37; Ромодановская Е. К. Погодинский летописец: (К вопросу о начале сибирского летописания) // Сибирское источниковедение и археография. Новосиб., 1980. С. 18-59; она же. Летописные источники о походе Ермака // Изв. СО. АН СССР. Сер. обществ. наук. 1981. № 11. Вып. 3. С. 21-26; Лаврентьев А. В. Списки и редакции летописного свода 1652 г. // Источниковедческие исслед. по истории феод. России. М., 1981. С. 62-82; он же. Ранний список Холмогорской летописи из собр. А. И. Мусина-Пушкина // ТОДРЛ. 1985. Т. 39. С. 323-334; Муравьёва Л. Л. Летописание Сев.-Вост. Руси кон. XIII — нач. XV в. М., 1983; она же. Московское летописание 2-й пол. XIV — нач. XV в. М., 1991; она же. Рогожский летописец XV в. М., 1998; Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод: (2-я пол. XVII в.). Новосиб., 1984; Клосс Б. М., Назаров В. Д. Рассказы о ликвидации ордынского ига на Руси в летописании кон. XV в. // ДРИ. М., 1984. [Вып.:] XIV-XV вв. С. 283-313; Шмидт С. О. Российское гос-во в сер. XVI ст.: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984; Улащик Н. Н. Введение в изучение белорус.-литов. летописания. М., 1985; Корецкий В. И. История русского летописания 2-й пол. XVI — нач. XVII в. М., 1986; Франчук В. Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвист. освещении. К., 1986; СККДР. 1987. Вып. 1. С. 234-251, 337-343 [Библиогр.]; 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 17-69 [Библиогр.]; Богданов А. П., Чистякова Е. В. «Да будет потомкам явлено…»: Очерки о рус. историках 2-й пол. XVII в. и их трудах М., 1988; Богданов А. П. Летописец 1686 г. и патриарший скрипторий // КЦДР: XVII в. 1994. С. 64-89; Ульяновский В. И. Летописец Кирилло-Белозерского мон-ря 1604-1617 гг. // Там же. С. 113-139; Зиборов В. К. О летописи Нестора: Основной летописный свод в рус. летописании XI в. СПб., 1995; Самарин А. Ю. «Летописец князей Черкасских» как рукописный ист. сб. XVIII в.: (Состав, датировка, атрибуция) // ГДРЛ. 1995. Сб. 8. С. 246-255; Цыб С. В. Древнерус. времяисчисление в «Повести временных лет». Барнаул, 1995. СПб., 20112; Шашков A. T. Погодинский летописец и начало сибирского летописания // Проблемы истории России. Екат., 1996. Вып. 1. С. 116-161; Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // НИС. 1997. Вып. 6(16). С. 3-72; он же. «Рекоша дроужина Игореви…»: К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian Linguistics. Dordrecht. etc., 2001. Vol. 25. N 2. P. 147-181; он же. О критике текста и новом переводе-реконструкции «Повести временных лет» // Ibid. 2002. Vol. 26. N 1. P. 63-126; он же. Новгородская владычная летопись XII-XIV вв. и ее авторы: (История и структура текста в лингвист. освещении) // Лингвист. источниковедение и история рус. языка, 2004-2005. М., 2006. С. 114-251; он же. К проблеме редакций Повести временных лет // Славяноведение. 2007. № 5. С. 20-44; 2008. № 2. С. 3-24; он же. До и после Начального свода: Ранняя летописная история Руси как объект текстол. реконструкции // Русь в IX-X вв.: Археол. панорама. М.; Вологда, 2012. С. 37-63; Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская летопись: Источники, структура, жанровые и идейные особенности // ДГВЕ, 1995. М., 1997. С. 80-165; Солодкин Я. Г. История позднего рус. летописания. М., 1997; он же. Очерки по истории общерус. летописания кон. XVI — 1-й трети XVII вв. Нижневартовск, 2008; он же. Об источниках и авторстве Поволжского летописца нач. XVII в. // ЛиХ, 2013-2014. СПб., 2015. С. 411-422; Яковлев В. В. Новгородское летописание XVII в.: АКД. СПб., 1997; он же. Новгородская Корнильевская летопись в рус. историографии XVIII-XX вв. и в науч. наследии А. А. Шахматова // Акад. А. А. Шахматов: Жизнь, творчество и науч. наследие (в печати); Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. М., 1998; Дергачева-Скоп Е. И. Сибирское летописание в общерус. лит. контексте кон. XVI — cер. XVIII вв.: АДД. Екат., 2000; Шибаев М. А. Редакторские приемы составителя Софийской I летописи // Опыты по источниковедению: Древнерус. книжность. СПб., 2000. Вып. 3. С. 368-394; он же. Младшая редакция Софийской 1 летописи и проблема реконструкции истории летописного текста XV в. // Там же. 2001. Вып. 4. С. 340-385; Timberlake A. Who Wrote the Laurentian Chronicle (1177-1203)? // ZSP. 2000. Bd. 59. N 2. S. 237-266; idem. Redactions of the Primary Chronicle // Рус. язык в науч. освещении. М., 2001. № 1. С. 196-218; Бобров А. Г. Новгородские летописи XV в. СПб., 2001; Пауткин А. А. Беседы с летописцем: Поэтика раннего рус. летописания. М., 2002; Щапов. Памятники. С. 21-49; Новикова О. Л. Новгородские летописи нач. XVI в.: Текстологич. исслед. // НИС. 2003. Вып. 9(19). С. 221-244; она же. Из истории новгородского летописания XVI в.: Новгородская летопись П. П. Дубровского и родственные ей памятники // ОФР. 2005. Вып. 9. С. 3-40; она же. Мат-лы для изучения рус. летописания кон. XV — 1-й пол. XVI в. // Там же. 2007. Вып. 11. С. 132-258; 2009. Вып. 13. С. 105-197; она же. Лихачёвский «Летописец от 72-х язык»: К истории создания и бытования // ЛиХ, 2009-2010. М.; СПб., 2010. С. 237-272; она же. «Летописец русский» в рукописях и в истории рус. летописния XV в. // Там же, 2011-2012. М.; СПб., 2012. С. 156-205; она же. О происхождении Синодальной редакции Типографской летописи // Вестн. Альянс-Архео. М.; СПб., 2014. Вып. 7. С. 3-22; Толочко П. П. Рус. летописи и летописцы X-XIII вв. СПб., 2003; Уо Д. К. История одной книги. СПб., 2003; Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: История текста. СПб., 2004; она же. Школы исследования рус. летописей: XIX-XX вв. СПб., 2011; Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004; Гимон Т. В. Как велась новгородская погодная летопись в XII в.? // ДГВЕ, 2003 г. М., 2005. С. 316-352; он же. В каких случаях имена новгородцев попадали на страницы летописи (XII-XIII вв.)? // Там же, 2004 г. М., 2006. С. 291-333; он же. Историописание раннесредневек. Англии и Др. Руси: Сравн. исслед. М., 2012; он же. События XI — нач. XII в. в новгородских летописях и перечнях // ДГВЕ, 2010 г. М., 2012. С. 584-703; он же. Для чего писались рус. летописи?: Вторая версия // История: Электр. науч.-образоват. ж. 2012. Вып. 5(13). С. 237-262; он же. Новгородское историописание в правление Василия Калики (1330-1352) // Ист. повествование в Средневек. России: К 450-летию Степенной книги: Мат-лы всерос. конф. М.; СПб., 2014. С. 36-70; idem. (Guimon T. V.). What Events Were Reported by the Old Rus’ Chroniclers? // Collegium. Helsinki, 2015. Vol. 17. P. 92-117; Морозов В. В. Лицевой свод в контексте отеч. летописания XVI в. М., 2005; Толочко А. П. Происхождение хронологии Ипатьевского списка Галицко-Волынской летописи // Palaeoslavica. Camb., 2005. Vol. 13. N 1. P. 81-108; он же. Очерки начальной Руси. К.; СПб., 2015; Стависький В. Киïв i киïвське лiтописання в XIII ст. К., 2005; Накадзава А. Исследования новгородских и московских летописей XV в. Тояма, 2006; Шайдакова М. Я. Нижегородские летописные памятники XVII в. Н. Новг., 2006; Hristova D. S. Major Textual Boundary of Linguistic Usage in the Galician-Volhynian Chronicle // Russian History. Pittsburg, 2006. Vol. 33. N 2. P. 313-331; Бовтиря А. М. Козацьке iсторiописання // Iсторiя украïнського козацтва. К., 2007. Т. 2. С. 250-302; Щавелёв А. С. Слав. легенды о первых князьях: Сравнит.-ист. исслед. моделей власти у славян. М., 2007; Ostrowski D. The Načal’nyj Svod and the Povest’ vremennyx let // Russian Linguistics. Dordrecht, 2007. Vol. 31. N 3. P. 269-308; Анисимова Т. В. Сб. хронографический с Рогожским летописцем: (Археогр. описание) // ЛиХ, 2008. М.; СПб., 2008. С. 52-93; Кистерев С. Н. Эпизод истории частного московского летописания XV в. // Там же. С. 152-171; Мат-лы междунар. конф. «Повесть временных лет и начальное летописание»: (Москва, 22-25 окт. 2008 г.) // ДРВМ. 2008. № 3(33). С. 5-75; Введенский А. М. Текстологический анализ летописного сказания о крещении Новгорода // ТОДРЛ. 2009. Т. 60. С. 267-280; Вилкул Т. Л. Люди и князь в древнерус. летописях сер. XI-XIII вв. М., 2009; она же (Вiлкул Т. Л.). Лiтопис i хронограф: Студiï з домонгольського киïвського лiтописання. К., 2015; Усачев А. С. Степенная книга и древнерус. книжность времени митр. Макария. М.; СПб., 2009; он же. Летописец начала царства и митрополичья кафедра в сер. XVI в. // Проблемы отечественной истории и историографии XVII-XX вв.: Сб. ст., посвящ. 60-летию Я. Г. Солодкина. Нижневартовск, 2011. С. 5-21; он же. Митр. Афанасий и памятники рус. летописания сер.- 3-й четв. XVI в. // ЛиХ, 2011-2012. М.; СПб., 2012. С. 253-274; Цукерман К. Наблюдения над сложением древнейших источников летописи // Борисо-Глебский сб. = Collectanea Borisoglebica. P., 2009. Вып. 1. С. 183-305; Конявская Е. Л. Краткий новгородский летописец и его место в новгородском летописании // ДРВМ. 2010. № 1(39). С. 40-52; Милютенко Н. И. Новгородская I летопись младшего извода и общерус. летописный свод нач. XV в. // ЛиХ, 2009-2010. М.; СПб., 2010. С. 162-222; Аристов В. Ю. Проблемы происхождения сообщений Киевской летописи // Ruthenica. К., 2011. Т. 10. С. 117-136; Михеев С. М. Кто писал «Повесть временных лет»? М., 2011; Сиренов А. В. «Двухтомник» Воскресенской летописи // ЛиХ, 2011-2012. М.; СПб., 2012. С. 236-252; он же. О времени создания Воскресенской летописи // Ист. повествование в средневек. России: Мат-лы всерос. науч. конф. М.; СПб., 2014. С. 113-125. (Историография и источниковедение отеч. истории; Вып. 7); он же. Пометы Томского списка Степенной книги и составление Лицевого летописного свода // Там же. С. 202-220; он же. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева // ЛиХ, 2013-2014. М.; СПб., 2015. С. 235-247; Стефанович П. С. «Сказание о призвании варягов», или Origo gentis russorum? // ДГВЕ, 2010 г. М., 2012. С. 514-583; Иванова Н. П. Месяцеслов Новгородской первой летописи. Барнаул, 2013; Назаренко А. В. Достоверные годовые даты в раннем летописании и их значение для изучения древнерус. историографии // ДГВЕ, 2013 г. (в печати); Жуков А. Е. Летописец начала царства в составе Свода 1560 г. // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 2014. Вып. 4. С. 162-173; он же. К вопросу об источниках Летописного свода 1560 г. // Ист. повествование в средневек. России. 2014. С. 126-187; он же. К вопросу об истории текста «Летописца начала царства» // ЛиХ, 2013-2014. М.; СПб., 2015. С. 348-382.
В. Г. Вовина-Лебедева, Т. В. Гимон, А. Е. Жуков, Б. Н. Флоря