Александр Михайлович Адамович. Каратели
Александр Михайлович Адамович. Каратели
Действие
происходит во время Великой Отечественной войны, в 1942 г., на территории
оккупированной Белоруссии.
«Каратели»
— кровавая хроника уничтожения батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера
семи мирных деревень. Главы носят соответствующие названия: «Поселок первый»,
«Поселок второй», «Между третьим и четвертым поселком» и т. д. В каждой главе
помещены выдержки из документов о деятельности карательных отрядов и их участников.
Каратели-полицаи
готовятся к уничтожению первого поселка на пути к основной цели — большой и многолюдной
деревне Борки. Точно указаны дата, время, место события, фамилии. В составе
«особой команды» — «штурмбригады» — немец Оскар Дирлевангер объединил
уголовников, предателей, дезертиров разных национальностей и вероисповедания.
Полицай
Тупига поджидает своего напарника Доброскока, чтобы закончить расправу над
жителями первого поселка до приезда начальства. Все население сгоняют за сарай
к большой яме, у края которой производится расстрел. Полицай Доброскок в одном
из домов, подлежащих уничтожению, узнает среди хозяев свою городскую
родственницу, перебравшуюся в деревню накануне родов. В душе женщины загорается
надежда на спасение. Доброскок, подавив возникшее было чувство сострадания,
стреляет в женщину, которая опрокидывается навзничь в яму — и… засыпает (По свидетельству
чудом уцелевших после казни, люди в момент выстрела не слышат, как стреляют.
Они как бы засыпают.)
В
главе «Поселок второй» описывается уничтожение деревни Козуличи.
Каратель-француз просит полицая Тупигу за шмат сала проделать за него
«неприятную работенку» — расстрелять семью, обосновавшуюся в хорошей добротной
избе. Ведь Тупига — «мастер, специалист, ну что ему стоит?» У Тупиги — своя
манера: сперва он говорит с женщинами, просит хлеба перекусить — те и расслабятся,
а как хозяйка к печи нагнется, так и… «Тело пулемета рванулось — как бы и он испугался…»
Действие
возвращается к поселку первому, к той яме, где осталась в состоянии странного
смертного сна беременная женщина. Сейчас, в 11 часов 51 минуту по берлинскому
времени, она открывает глаза. Перед ней — довоенная детская комната на бобруйской
окраине; мать с отцом собираются в гости, а она прячет от них стыдно
накрашенные маминой помадой губы; следующее видение — почему-то чердак, и они с
Гришей лежат, как муж и жена, а внизу мычит корова… «Кислый запах любви,
стыдный. Или это из-за ширмы? Нет, снизу, где корова. Из ямы… Из какой ямы? О чем
я? Где я?»
Поселок
третий мало чем отличается от предыдущих. Полицаи Тупига, Доброскок и Сиротка
идут через редкий соснячок, вдыхая жирный сладковатый трупный дым. Тупига
старается подавить мысли о возможном отмщении. Внезапно в гуще малинника
полицаи натыкаются на женщину с детьми. Сиротка выказывает немедленную
готовность покончить с ними, но Тупига, вдруг повинуясь какому-то неосознанному
порыву, отправляет напарников вперед, а сам дает очередь из пулемета мимо цели.
Внезапное возвращение Сиротки повергает его в ужас. Тупига представляет себе,
как бы отреагировали на его поступок немцы или бандиты из роты Мельниченко —
«галицийцы», бандеровцы. Вот и сейчас «самостийники» зашевелились, —
оказывается, какая-то баба, увидев дым-пожар, бежит с поля, домой. Из-за куста
ударяет пулемет — баба с мешком падает. Дойдя до деревни, Тупига встречает
Сиротку и Доброскока с набитыми карманами. Он входит в еще не разграбленный
дом. Среди прочего добра — один крошечный ботиночек. Держа его на пальце,
Тупига находит в темной боковушке спящего в люльке младенца. Один глаз его приоткрыт
и, кажется Тупиге, смотрит на него… Тупига слышит во дворе голоса
мародерствующих бандеровцев. Ему не хочется, чтобы его заметили в доме. Ребенок
кричит — и Тупига выхватывает наган… Далеко и незнакомо звучит его голос:
«Жалко было, пацана пожалел! Живым сгорит».
Командир
новой «русской» роты Белый замышляет способ избавления от ближайшего соратника
Сурова, с которым его связывают курсы красных командиров, плен, бобруйский
лагерь и добровольное согласие служить в карательном батальоне. Белый сначала
тешил себя несбыточной затеей — уйти когда-нибудь к партизанам, а в качестве
свидетеля своих «честных» намерений предъявить Сурова, а потому специально
оберегал его от явно кровавых заданий. Однако чем дальше, тем отчетливее
понимает Белый, что никогда не сможет порвать с карателями, особенно после
случая с партизанским разведчиком, в доверие к которому он вошел, но тут же и выдал
его. А чтоб развеять суровский ореол непорочности, приказывает тому самолично
облить бензином и подпалить сарай, куда согнали все население поселка.
В
центре следующей главы — фигура лютого карателя из так называемой «украинской
роты» Ивана Мельниченко, которому всецело доверяет командир роты немец Поль,
вечно пьяный уголовник-извращенец. Мельниченко вспоминает о своем пребывании в фатерлянде,
куда его пригласили родители Поля, — Мельниченко спас тому жизнь. Он ненавидит
и презирает всех: и тупых, ограниченных немцев, и партизан, и даже своих
родителей, которые ошеломлены появлением сына-карателя в бедной киевской хате и
молят Бога о его смерти. В разгар очередной «операции» к мельниченковцам
прибывает подмога — «москали». Мельниченко в ярости бьет по щеке плетью их командира
— своего недавнего подчиненного Белого — и получает в ответ полную обойму
свинца. Сам Белый тут же погибает от руки одного из бандеровцев (из документов
известно, что Мельниченко долго лечился в госпиталях, после войны был судим,
бежал, скрывался и погиб в Белоруссии). Борковская операция продолжается.
Осуществляет её по «методе» Дирлевангера штурмфюрер Слава Муравьев.
Карателей-новичков строят попарно с уже бывшими в деле фашистами — остаться в стороне,
не замазаться в крови невозможно. Сам Муравьев тоже прошел этот путь: бывший
лейтенант Красной Армии, он в первом же бою был раздавлен фашистскими танками,
затем с остатками своего полка пытался противостоять неумолимой военной машине
немцев, но в конце концов попал в плен. Полностью подавленный, он пытается
оправдаться перед матерью, отцом, женой, самим собой тем, что будет «своим»
среди чужих. Военную выправку, интеллигентность бывшего учителя заметили немцы,
сразу дали взвод. Муравьев тешит себя мыслями, что заставил уважать себя; его
подчиненные — это не мельниченковские «самостийники», у него дисциплина.
Муравьев вхож в дом самого Дирлевангера, знакомится с наложницей шефа — Стасей,
четырнадцатилетней польской еврейкой, которая мучительно напоминает ему давнюю
любовь — учительницу Берту. Муравьев не чужд книг, немец Циммерман обсуждает с ним
теорию Ницше и библейские притчи.
Дирлевангер
ценит неразговорчивого азиата, однако сейчас собирается сделать его пешкой в своей
игре: он замышляет свадьбу Муравьева со Стасей, чтобы заткнуть рот
злопыхателям, доносящим на него в Берлин о якобы имевшей место пропаже золотых
вещиц, прикарманенных им после расстрела специально отобранных пятидесяти
евреев в Майданеке. Дирлевангеру нужно реабилитировать себя перед Гиммлером и фюрером
за прошлую связь с заговорщиком Ремом и небезобидные пристрастия к девочкам
младше четырнадцати лет. По дороге в Борки Дирлевангер сочиняет мысленно письмо
в Берлин, из которого руководство узнает и по достоинству оценит его
«новаторский», «революционный» способ тотального уничтожения непокорных
белорусских деревень и заодно успешно применяемую практику «перевоспитания»
отбросов человечества вроде ублюдка Поля, которого он вытащил из концлагеря и взял
в карательный взвод: лучшая стерилизация — это «омоложение детской кровью».
Борки, по Дирлевангеру, — это демонстративный акт тотального устрашения.
Женщины и дети загнаны в амбар, местные полицаи, наивно рассчитывавшие на милость
немцев, — в школу, их семьи — в дом напротив. Дирлевангер со свитой входит в ворота
амбара «полюбоваться» на добросовестно подготовленный «материал». Когда
затихает пулеметная пальба, сами собой распахиваются не выдержавшие огня
ворота. У стоящих в оцеплении карателей не выдерживают нервы: Тупига дает
очередь из автомата в клубы дыма, у многих выворачивает желудки. Затем
начинается расправа с полицаями, которых на виду у семей выводят по одному из школы
и швыряют в огонь. И каждый из карателей думает, что такое может произойти с другими,
но не с ним.
В
11 часов 56 минут немец Лянге водит стволом автомата по трупам страшной ямы
первого поселка. В последний раз видит своих убийц женщина, и в жуткой тишине
беззвучно кричит от ужаса и одиночества неродившаяся шестимесячная жизнь.
В
конце повести — документальные свидетельства о сожжении трупов Гитлера и Евы
Браун, перечисление преступлений против человечества в современную эпоху.
Л.
А. Данилкин
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://briefly.ru
До урока учащиеся получили раздаточный
материал — словарь урока и цитаты из
произведений Алеся Адамовича. С них и начался
урок.
Какой устойчивый символ прозы Адамовича
прослеживается в этих цитатах?
После выразительного чтения цитат ребята
пришли к выводу, что устойчивым символом прозы
Адамовича является черта.
Специально подготовленный ученик более
подробно рассказал о многозначности этого
символа у Адамовича, подтверждая каждое значение
символа примерами из текстов.
“Произведения белорусского прозаика редко
воспроизводят жизнь в её спокойном течении.
Тишина здесь всегда обманчива. Время
драматического напряжения… До роковой черты и
после неё. На эту черту рано или поздно выходят
все персонажи писателя. Кто по велению долга, кто
— под нажимом обстоятельств.
На этой черте совершается очная ставка
личности со своей же совестью…” [4]
На стенде были представлены книги писателя, все
они посвящены военной тематике, даже там, где
прозаик обращается к мирной действительности,
там всё равно звучит эхо огненных лет. А война в
произведениях писателя особая, партизанская.
Прослушав выступление своего товарища,
десятиклассники вспомнили, почему партизанская
война является особой, узнали, что о войне
Адамович знал не понаслышке, поэтому многие
эпизоды у него строго документированы, взяты с
натуры.
Следующая часть урока была посвящена
целостному анализу повести “Каратели”.
Эта повесть вышла в свет в 1979 году. “Тема
карателей вызревала в творчестве писателя не
одно десятилетие. В одной из публицистических
статей Адамович писал: “Ответить, объяснить
совсем не просто, а не поняв, не объяснив, не
поймёшь, откуда же и как “вдруг” в центре Европы
“появился” народ без милосердия, по приказу
политических маньяков убивавший всех, кто не он
сам, и даже других приспособивший к этой своей
работе…” [4]
После прослушивания музыкальной композиции
“Хатынь” в исполнении ВИА “Верасы” внимание
ребят было акцентировано на эпиграф урока.
Хатынь — напоминание о философии фашизма.
Хатынь — напоминание о гитлеровских
планах ликвидации не только славянских, но и
европейских народов.Хатынь — напоминание о бедствиях,
грозящих миру в атомной бойне.
Вот эта Хатынь и звучит в повести “Каратели”.
Целостный анализ начался с вопроса о
стилистической особенности этого произведения.
Адамович анализирует характер мышления
нацистов, аргументы, которыми они оперировали.
Для этого он использует монологическую речь.
Внимание ребят было обращено и на эпиграф к
повести, одна из цитат которого принадлежит
немецкому мыслителю Ф.Ницше.
Адамович не раз ссылается на те изречения
Ницше, которые были взяты на вооружение Гитлером.
Писатель показывает, как теоретические
упражнения нацистов оборачивались гибелью
миллионов людей.
Обсуждение повести продолжили ответы учащихся
на вопросы:
- Какова же философия фашизма и как достигается
достоверность изображаемого в повести
Адамовича? - Как действует механизм философии фашизма на
примере штурмбатальона Дирлевангера? - В начале урока мы сказали, что устойчивым
символом прозы Адамовича является черта. Как
этот символ проявляется на страницах повести?
Десятиклассники делали выводы о том, что мысль
писателя упорно проникает в недра социальной
психологии фашизма, выявляя аномальную систему,
которая формировала нелюдей.
Звучали отрывки из повести, в том числе и
монолог Гитлера на фоне музыки Шестаковича,
раскрывающие суть философии фашизма. Обращаясь к
монологам новоиспечённых карателей, ребята
проследили, как автор опровергает на страницах
повести философию, устранявшую ответственность
за совершённое ими. (Они сами выбрали этот путь. У
каждого был выбор. Вина этих людей неискупима и
не подвластна сроку давности.) На этом этапе
урока звучали и слова Л.Толстого, взятые
писателем в качестве второго эпиграфа.
“Каратели” — это произведение о прошлом.
Почему надо возвращаться к прошлому? В своих
письменных работах учащиеся указывали на то, что
“это прошлое живёт в памяти”,
“человеконенавистнические идеи и поныне ещё
воскресают…”, “надо помнить, чтобы не
повторились ошибки прошлого”, “в жизни человека
бывают белая и чёрная полосы, одна сменяет
другую, и надо достойно пережить последнюю”, “в
любой ситуации надо помнить, что ты Человек”.
“Будущее иногда бросает камни в прошлое. К
этому следует быть готовыми. Готовыми к тому, что,
собирая “камни” правды о себе и о своём времени,
приготавливаешь их и для себя.
Но так уж устроен человек — боль правды, всей
правды для него в конечном счёте важнее, дороже
сомнительного “блаженства” неведения и лжи.” [3]
Всё, о чём говорилось на уроке, было, и живущие
люди должны об этом знать.
Стоит уже более полувека деревня, где нет домов,
а только одни колокола. Они звонят, напоминая нам
о том, что история может повториться, взывая к
разуму людей. Мы возвращаемся в прошлое, чтобы
понять, как это было.
Таким образом, урок способствовал обеспечению
усвоения роли истории в жизни общества,
современности творчества А.Адамовича;
содействовал воспитанию у учащихся
патриотических чувств, презрения к насилию,
несправедливости; способствовал развитию умения
выстраивать монологическое высказывание с
опорой на текст, была продолжена работа над
целостным анализом текста, над умением строить
рассуждение и делать выводы, видеть
стилистические особенности текста.
Литература, использованная учителем
- Адамович.А. Хатынская повесть. Каратели. — М.:
Известия, 1983 - Адамович.А. Сыновья уходят в бой: Роман-дилогия. —
М.: Молодая гвардия, 1987. - Адамович.А., Гранин.Д. Блокадная книга. — М.:
Советский писатель, 1982. - Теракопян.Л. Человек и политика: Литература в
конфликтном мире. — М.: Советский писатель,1988. - Овчеренко.К. Современный белорусский роман. —
Минск, 1987. - Справочник школьника. История мировой культуры/
Сост. Ф.С.Капица, Т.М.Колядич. — М.: Филолог, 1996.
Алесь Адамович
Каратели
РАДОСТЬ НОЖА, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ГИПЕРБОРЕЕВ
Повесть (1971-1979)
Действие происходит во время Великой Отечественной войны, в 1942 г., на территории оккупированной Белоруссии. “Каратели” – кровавая хроника уничтожения батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера семи мирных деревень. Главы носят соответствующие названия: “Поселок первый”, “Поселок второй”, “Между третьим и четвертым поселком” и т. д. В каждой главе помещены выдержки из документов о деятельности карательных отрядов
и их участников.
Каратели-полицаи готовятся к уничтожению первого поселка на пути к основной цели – большой и многолюдной деревне Борки. Точно указаны дата, время, место события, фамилии. В составе “особой команды” – “штурмбригады” – немец Оскар Дирлевангер объединил уголовников, предателей, дезертиров разных национальностей и вероисповедания.
Полицай Тупига поджидает своего напарника Доброскока, чтобы закончить расправу над жителями первого поселка до приезда начальства. Все население сгоняют за сарай к большой яме, у края которой производится расстрел. Полицай Доброскок в одном
из домов, подлежащих уничтожению, узнает среди хозяев свою городскую родственницу, перебравшуюся в деревню накануне родов. В душе женщины загорается надежда на спасение.
Доброскок, подавив возникшее было чувство сострадания, стреляет в женщину, которая опрокидывается навзничь в яму – и… засыпает (По свидетельству чудом уцелевших после казни, люди в момент выстрела не слышат, как стреляют. Они как бы засыпают.)
В главе “Поселок второй” описывается уничтожение деревни Козуличи. Каратель-француз просит полицая Тупигу за шмат сала проделать за него “неприятную работенку” – расстрелять семью, обосновавшуюся в хорошей добротной избе. Ведь Тупига – “мастер, специалист, ну что ему стоит?” У Тупиги – своя манера: сперва он говорит с женщинами, просит хлеба перекусить – те и расслабятся, а как хозяйка к печи нагнется, так и… “Тело пулемета рванулось – как бы и он испугался…”
Действие возвращается к поселку первому, к той яме, где осталась в состоянии странного смертного сна беременная женщина. Сейчас, в 11 часов 51 минуту по берлинскому времени, она открывает глаза. Перед ней – довоенная детская комната на бобруйской окраине; мать с отцом собираются в гости, а она прячет от них стыдно накрашенные маминой помадой губы; следующее видение – почему-то чердак, и они с Гришей лежат, как муж и жена, а внизу мычит корова… “Кислый запах любви, стыдный.
Или это из-за ширмы? Нет, снизу, где корова. Из ямы…
Из какой ямы? О чем я? Где я?”
Поселок третий мало чем отличается от предыдущих. Полицаи Тупига, Доброскок и Сиротка идут через редкий соснячок, вдыхая жирный сладковатый трупный дым. Тупига старается подавить мысли о возможном отмщении.
Внезапно в гуще малинника полицаи натыкаются на женщину с детьми. Сиротка выказывает немедленную готовность покончить с ними, но Тупига, вдруг повинуясь какому-то неосознанному порыву, отправляет напарников вперед, а сам дает очередь из пулемета мимо цели. Внезапное возвращение Сиротки повергает его в ужас.
Тупига представляет себе, как бы отреагировали на его поступок немцы или бандиты из роты Мельниченко – “галицийцы”, бандеровцы. Вот и сейчас “самостийники” зашевелились, – оказывается, какая-то баба, увидев дым-пожар, бежит с поля, домой. Из-за куста ударяет пулемет – баба с мешком падает.
Дойдя до деревни, Тупига встречает Сиротку и Доброскока с набитыми карманами. Он входит в еще не разграбленный дом. Среди прочего добра – один крошечный ботиночек. Держа его на пальце, Тупига находит в темной боковушке спящего в люльке младенца.
Один глаз его приоткрыт и, кажется Тупиге, смотрит на него… Тупига слышит во дворе голоса мародерствующих бандеровцев. Ему не хочется, чтобы его заметили в доме.
Ребенок кричит – и Тупига выхватывает наган… Далеко и незнакомо звучит его голос: “Жалко было, пацана пожалел! Живым сгорит”.
Командир новой “русской” роты Белый замышляет способ избавления от ближайшего соратника Сурова, с которым его связывают курсы красных командиров, плен, бобруйский лагерь и добровольное согласие служить в карательном батальоне. Белый сначала тешил себя несбыточной затеей – уйти когда-нибудь к партизанам, а в качестве свидетеля своих “честных” намерений предъявить Сурова, а потому специально оберегал его от явно кровавых заданий. Однако чем дальше, тем отчетливее понимает Белый, что никогда не сможет порвать с карателями, особенно после случая с партизанским разведчиком, в доверие к которому он вошел, но тут же и выдал его.
А чтоб развеять суровский ореол непорочности, приказывает тому самолично облить бензином и подпалить сарай, куда согнали все население поселка.
В центре следующей главы – фигура лютого карателя из так называемой “украинской роты” Ивана Мельниченко, которому всецело доверяет командир роты немец Поль, вечно пьяный уголовник-извращенец. Мельниченко вспоминает о своем пребывании в фатерлянде, куда его пригласили родители Поля, – Мельниченко спас тому жизнь. Он ненавидит и презирает всех: и тупых, ограниченных немцев, и партизан, и даже своих родителей, которые ошеломлены появлением сына-карателя в бедной киевской хате и молят Бога о его смерти.
В разгар очередной “операции” к мельниченковцам прибывает подмога – “москали”. Мельниченко в ярости бьет по щеке плетью их командира – своего недавнего подчиненного Белого – и получает в ответ полную обойму свинца. Сам Белый тут же погибает от руки одного из бандеровцев (из документов известно, что Мельниченко долго лечился в госпиталях, после войны был судим, бежал, скрывался и погиб в Белоруссии). Борковская операция продолжается.
Осуществляет ее по “методе” Дирлевангера штурмфюрер Слава Муравьев. Карателей-новичков строят попарно с уже бывшими в деле фашистами – остаться в стороне, не замазаться в крови невозможно. Сам Муравьев тоже прошел этот путь: бывший лейтенант Красной Армии, он в первом же бою был раздавлен фашистскими танками, затем с остатками своего полка пытался противостоять неумолимой военной машине немцев, но в конце концов попал в плен. Полностью подавленный, он пытается оправдаться перед матерью, отцом, женой, самим собой тем, что будет “своим” среди чужих.
Военную выправку, интеллигентность бывшего учителя заметили немцы, сразу дали взвод. Муравьев тешит себя мыслями, что заставил уважать себя; его подчиненные – это не мельниченковские “самостийники”, у него дисциплина. Муравьев вхож в дом самого Дирлевангера, знакомится с наложницей шефа – Стасей, четырнадцатилетней польской еврейкой, которая мучительно напоминает ему давнюю любовь – учительницу Берту.
Муравьев не чужд книг, немец Циммерман обсуждает с ним теорию Ницше и библейские притчи.
Дирлевангер ценит неразговорчивого азиата, однако сейчас собирается сделать его пешкой в своей игре: он замышляет свадьбу Муравьева со Стасей, чтобы заткнуть рот злопыхателям, доносящим на него в Берлин о якобы имевшей место пропаже золотых вещиц, прикарманенных им после расстрела специально отобранных пятидесяти евреев в Майданеке. Дирлевангеру нужно реабилитировать себя перед Гиммлером и фюрером за прошлую связь с заговорщиком Ремом и небезобидные пристрастия к девочкам младше четырнадцати лет. По дороге в Борки Дирлевангер сочиняет мысленно письмо в Берлин, из которого руководство узнает и по достоинству оценит его “новаторский”, “революционный” способ тотального уничтожения непокорных белорусских деревень и заодно успешно применяемую практику “перевоспитания” отбросов человечества вроде ублюдка Поля, которого он вытащил из концлагеря и взял в карательный взвод: лучшая стерилизация – это “омоложение детской кровью”.
Борки, по Дирлевангеру, – это демонстративный акт тотального устрашения. Женщины и дети загнаны в амбар, местные полицаи, наивно рассчитывавшие на милость немцев, – в школу, их семьи – в дом напротив. Дирлевангер со свитой входит в ворота амбара “полюбоваться” на добросовестно подготовленный “материал”.
Когда затихает пулеметная пальба, сами собой распахиваются не выдержавшие огня ворота. У стоящих в оцеплении карателей не выдерживают нервы: Тупига дает очередь из автомата в клубы дыма, у многих выворачивает желудки. Затем начинается расправа с полицаями, которых на виду у семей выводят по одному из школы и швыряют в огонь.
И каждый из карателей думает, что такое может произойти с другими, но не с ним.
В 11 часов 56 минут немец Лянге водит стволом автомата по трупам страшной ямы первого поселка. В последний раз видит своих убийц женщина, и в жуткой тишине беззвучно кричит от ужаса и одиночества неродившаяся шестимесячная жизнь.
В конце повести – документальные свидетельства о сожжении трупов Гитлера и Евы Браун, перечисление преступлений против человечества в современную эпоху.
Л. А. Данилкин
Loading…
А. Адамович – повесть «Каратели». Повесть вышла в 1979 году. Эта тема давно уже интересовала писателя. В одной из публицистических статей Адамович писал: «Ответить, объяснить совсем не просто, а не поняв, не объяснив, не поймешь, откуда же и как «вдруг» в центре Европы «появился» народ без милосердия, по приказу политических маньяков убивавший всех, кто не он сам, и даже других приспособивший к этой своей работе». В этой книге писатель изучает саму психологию фашизма, выявляя аномальность этой системы.
Действие повести происходит на территории оккупированной Белоруссии. Книга представляет собой хронику уничтожения батальоном Дирлевангера семи мирных деревень. Соответствующие названия даны главам: «Поселок первый», «Поселок второй», «Между третьим и четвертым поселком».
Вот каратели прибыли в первый поселок. В составе этой группы – уголовники, дезертиры, предатели разных национальностей, включая русских и украинцев. Полицай Тупига и его напарник Доброскок сгоняют жителей за сарай, к большой яме, где происходит расстрел. Доброскок в одном из домов узнает свою городскую родственницу, приехавшую в деревню рожать. Однако он остается непреклонен: стреляет в беременную женщину.
Глава «Поселок второй» рассказывает об уничтожении деревни Козуличи. Один из карателей, француз, просит полицая Тупигу проделать за него «неприятную работенку» – расстрелять семью, жившую в хорошей, добротной избе. За это француз пообещал ему кусок сала. Тупига считается мастером в этих делах, у него своя особая манера: сначала он разговаривает с людьми, входит к ним в доверие, а когда те расслабятся (как хозяйка к печи нагнется), так и убивает.
Затем повествование вновь возвращается к первому поселку. Названия отдельных глав: «Поселок первый. 11 часов 51 минута по берлинскому времени», «Поселок первый.
11 часов 52 минуты по берлинскому времени», «Поселок первый. 11 часов 53 минуты по берлинскому времени», затем через несколько глав автор вновь возвращается к поселку первому: «Поселок первый. 11 часов 56 минут». Тем самым Адамович хочет сказать о том, что время здесь как бы остановилось, что все происходящее – всемирная катастрофа. И это подчеркивается образом солнца, растекшегося по небу, как раздавленный желток.
Также очень важен в повествовании образ не родившегося еще дитя. Беременная женщина, в которую стреляет Доброскок, словно засыпает, и все происходящее дается в восприятии младенца, невинной загубленной во чреве жизни. «Шестимесячная жизнь тревожно, зябко сжалась: резкие и чужие звуки вломились откуда-то, стараясь заглушить привычный ритм вселенной. Но и сквозь отвратительно частое, чужое громыхание, прорывающееся извне, стучало сердце матери-вселенной, стучало упрямо, надежно, и все оставалось, как всегда. Но вдруг произошло что-то непонятное и страшное – вечный звук, падавший сверху, отлетел, а следующий не возник, не родился, не упал. В жуткой, небывалой тишине шестимесячная жизнь беззвучно закричала от ужаса и одиночества». Идут последние мгновения жизни поселка, последние мгновения жизни матери и ребенка. И это в представлении писателя есть настоящий апокалипсис.
Выразительна и страшна сцена убийства карателем Тупигой оставшегося в одиночестве ребенка в одном из пустых домов в главе «Поселок третий». Характерно, что герой испытывает страх, ему кажется, что младенец похож на Иисуса, находящегося на руках у Богородицы.
«Тупига старался не заслонить солнечного луча, ему не хотелось, чтобы его видели. Но его шаги услышали, и голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом ребенок уже кричал так, что и в другом конце деревни услышат. Тупига, как пойманный, отступил к порогу, пулемет упрямился, напоминающе оттягивал шею, но люлька такая легкая, раскачивается, и ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган шершаво схватил его пальцы, припал к ладони и вздернул руку на уровень лица! По-живому вздрогнул – раз и еще раз…
Тупига направился к выходу и вдруг увидел самого себя: громоздкий, с упавшей на плечо головой, оседланный пулеметом, с лицом испуганным, а в руке наган!.. Позади раскачивается люлька, и он, не поворачиваясь, ее видит. И видит, как на белый от солнца пол падают, брызгая, огненно-яркие струйки. Ударил пистолетом (и больно – косточками пальцев!) по всему этому, открывшаяся зеркальная дверка шкафа со звоном ослепла. А Тупига сказал и сам услышал, как незнакомо, откуда-то из будущего прозвучал его голос: «Жалко было, пацана пожалел! Живым сгорит».
В повести перед читателем проходит целая галерея «антигероев»: лютый каратель «украинской роты» Иван Мельниченко, каратель Белый и его соратник Суров, бывший офицер Красной Армии Слава Муравьев. У каждого из них – свое прошлое, но у них нет настоящего и будущего.
В начале и в финале повести писатель приводит монологи Гитлера – «Чем выше обезьяна забирается по дереву…» и «Чем выше обезьяна забирается по дереву, тем лучше виден ее зад». Второй монолог принадлежит уже тени Гитлера. Монологи эти перекликаются с «письмом» Дирлевангера, переходящим в его внутренний монолог. Тем самым автор словно объединяет всех этих героев, подводя их под одну общую категорию – преступники против человечества.
Финал повести остается открытым: в конце приведены документальные свидетельства о сожжении трупов Гитлера и Евы Браун, перечислены преступления против человечества в современную эпоху.
Уверен, не будет сейчас преувеличением написать, что произведения о войне, написанные в советское время, не были свободны от определенных идеологических установок. Воспоминания военачальников и фронтовиков (тех, кому повезло с публикацией) тщательно фильтровались цензурой. Неудобные моменты, способные бросить тень на действия советского руководства, опускались. Равно как и другие моменты, чье присутствие в тексте у вдумчивого читателя способно было вызвать массу неудобных вопросов, тем самым поколебав созданный стараниями пропагандистов, кажущийся монолитным миф о единстве народа и власти — о том, как трудились себе люди, трудились, пели песни, ходили на Первомай, в обществе не было страха, царило взаимное уважение (даже в тюрьмах и лагерях), и вдруг – откуда ни возьмись напали на страну «немецко-фашистские орды», и все полетело в тартарары. Но благодаря чуткому руководству коммунистической партии враг был разгромлен, страну возвели из руин, а ветеранам той войны везде и всюду оказывался почет.
(О том, как оно было в действительности, касаемо ветеранов армии-победительницы – можно составить представление хотя бы на примере документального фильма «Победитель победителей», или вот этих постов:
http://d-v-sokolov.livejournal.com/193181.html
http://man-with-dogs.livejournal.com/685970.html).
Этой установке должны были следовать не только историки и авторы мемуаров, но и писатели, создающие свои произведения в жанре художественной литературы.
Впрочем, кое-кому удавалось благополучно обойти идеологическое сито цензуры, опубликовав произведения, действительно отражающие правду войны. Одним из таких авторов был Алесь Адамович, автор сценария известного фильма режиссера Элема Климова «Иди и смотри», который по праву называют самым страшным кино о войне. Не менее страшным по своему содержанию является и собственно литературное творчество Адамовича. Тема войны знакома автору не понаслышке. Будучи подростком, он воевал в партизанском отряде, и видел многое из того, что впоследствии описал, своими глазами. Кроме того, автор отличался исключительной добросовестностью по отношению к изначальному материалу: прежде чем приступить к написанию той или иной повести, занимался сбором фактических данных — опрашивал очевидцев, работал с архивами. Это придает прозе А.Адамовича поистине документальную достоверность.Именно эта честность и не позволяла писателю сводить свое повествование к бездумному повторению идеологических штампов о ВОВ. Даже напротив, в своих произведениях Алесь Адамович во многом способствовал их развенчанию.
Документальная повесть «Каратели» — наглядное тому подтверждение. Здесь ни вымышленных персонажей, ни придуманных сцен, а имеет место только художественное воссоздание действительно имевших место событий.
Произведение повествует о бесчинствах на территории Белоруссии карательного подразделения эсесовца Оскара Дирлевангера, и призвано привить у читателя ненависть к гитлеровским захватчикам. С этой задачей автор блестяще справляется. В то же время в процессе прочтения повести у вдумчивого читателя неосознанно возникает ряд неудобных вопросов. Вопросов не к автору, но к сочинителям идеологических мифов о войне 1941-1945 гг., которые сейчас иные «борцы с фальсификацией истории» пытаются представить как непререкаемую и абсолютную истину.
Не стану подробно пересказывать все произведение, его можно изложить в двух-трех предложениях: описывается, как гитлеровские каратели окружают и уничтожают белорусские села, вырезая их до последнего человека, не щадя ни стариков, ни детей. Повествование перемежается выдержками из материалов уголовных дел, возбужденных против бывших карателей десятилетиями спустя, свидетельскими показаниями выживших. Что сразу обращает внимание:
Состав батальона карателей, вокруг которого сосредоточено повествование, предельно интернационален. Немцы здесь в основном командуют, грязную же работу делают другие.
Это один из первых разрушенных автором мифов. В советское время пропаганда внушала, что все преступления на оккупированных территориях – дело рук исключительно немцев, их союзников…и пары-тройки отщепенцев из числа не разоблаченных «врагов народа» — обязательно бывших белогвардейцев и кулаков.
Однако факты показывают, что гитлеровцы предпочитали иметь дело вовсе не с белоэмигрантами, а именно с «советскими людьми» — продуктами довоенных десятилетий, приспособленцами, которым было по большому счету все равно, чей хлеб кушать, и какие услуги за это оказывать работодателям, главное – чтобы самим жилось хорошо.
И не случайно в книге с самых первых страниц в роли ненавистных «гитлеровских пособников» предстают типичные советские люди, бывшие бойцы РККА и красные командиры. В повести рассмотрено несколько таких типов – кто-то из них тешит себя мыслью, что при первом же удобном случае сбежит к партизанам и искупит свою вину кровью, кто-то, напротив, старается угодить новым хозяевам, видя себя в мечтах кем-то наподобие русского князя, из тех, что в свое время ездили в Орду, брали ярлыки на княжение, а потом взяли – да и разбили монгол.
Но больше все же таких, кто «просто делает свою работу». Буднично, будто убирает снопы сена. Вот диалог двух карателей из первой главы:
«— Ну что идешь, как спишь? Диски твои где? Что «ладно», было бы ладно, я бы тебе не говорил. Как врежут зараз из того леска бандиты, сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет.
— Да ладно тебе, Янка.
— Евдокимович…
— Дай лучше закурить, Евдокимович. Слюна — как резина. Курнуть дай.
— А штаны не тяжелые?
— Две ямы загрузили. С верхом».
Характерны и взаимоотношения между самими карателями – словно читаешь письменное изложение передачи из жизни хищников с канала «Дискавери». Клубок ядовитых змей, готовых жалить друг друга, несмотря на то, что все одинаково повязаны кровью. Т.к. отряд интернациональный, происходят столкновения на этой почве между его «бойцами» — описано, как один каратель – бывший командир РККА пытался застрелить другого карателя – ярого украинского националиста, однако тот его опередил.
Но главное, что обращает на себя внимание при первом же прочтении — это то, что «герои» повести, в послевоенные годы, в основном, отделались смехотворными по тем временам тюремными сроками, а после освобождения неплохо устроились (и это очень распространенное явление — знаю лично пример, когда бывший каратель работал председателем колхоза, и даже — ха-ха, получил звание героя Социалистического труда). Вот показательный пример — выдержка из письма-заявления Муравьева Ростислава Александровича (бывшего офицера РККА, перешедшего к нацистам и ставшего командиром взвода карателей в звании штурмфюрера), которое он написал в адрес суда уже после оглашения ему смертного приговора:
«В этом письме речь не обо мне, а о моей семье и моих родственниках.
2 сентября 1945 года я добровольно возвратился из Франции и в Советской зоне явился в контрразведку, считая, что моя фамилия и мои преступления ей известны. Но на меня, к сожалению, посмотрели с изумлением. Обо мне не знали. Тогда я поставил перед собой цель — наказать себя, но так, чтобы можно было трудом доказать правительству: мои преступления перед Родиной совершены не из ненависти к советской власти, а от растерянности в начале войны, от страха перед голодной смертью и возмездием со стороны карательных органов, из-за трусости перед смертью в момент пленения. Наговорил на себя «достаточно», судом был приговорен к 15 годам лагерей и направлен на шахты.
Никогда никому (а тем более семье, родственникам) я не рассказывал о своих преступлениях и думал, честно говоря, что уже не придется.
Я вас очень прошу, не предавайте огласке через газеты, радио, телевидение и другие каналы информации о предстоящем процессе.
Вся моя семья и родственники — истинные труженики и порядочные люди, в лучшем смысле этого слова. Я преступник, в 1945 году наказал сам себя (к сожалению, недостаточно), а в 1971 году объективно выходит так, что больше наказывается моя семья. Машина «Волга», гараж и 4,5 тысячи денег — это принадлежит моей жене. Тем более что в 1945 году у меня уже была конфискация. Таких женщин, как моя жена, не так уж много на Руси, будьте милосердны к ней. Она, интеллигентная женщина, врач-гинеколог, добровольно приехала ко мне на поселение, самоотверженно разделив трудности, переживаемые мужем.
Я каким-то образом оказался среди них уродом, так пусть же весь мой позор падет только на меня».
Отметим в письме Муравьева следующие моменты (для удобства восприятия я их выделил жирным). Командир взвода карателей, руководивший массовыми расстрелами и сожжениями, на совести которого сотни, если не тысячи загубленных жизней, не только не разыскивался, но и по всей видимости, его показания не проверялись. Впаяли 15 лет – срок по тем временам почти детский, и вовсе не факт, что преступник отсидел его «от звонка до звонка». И самое главное, выйдя затем на свободу, организатор убийств гражданского населения, неплохо устроился. Автомашина, гараж и «4,5 тысячи денег» — все это показатель достатка.
Для сравнения: вспоминаем, как подлинных героев войны, переживших ужасы германского плена, и не пошедших на службу к нацистам, после победы на Рейхом советские спецслужбы месяцами держали в фильтрационно-проверочных лагерях, где изводили допросами, били, а кое-кого и вовсе доводили до самоубийства. И даже благополучно прошедшие проверку бывшие пленные долгое время оставались гражданами второго сорта, над которыми дамокловым мечом висела угроза быть арестованными. Это же относится и к фронтовикам-ветеранам, после войны попавшим в жернова сталинской репрессивной машины – за неосторожное слово. Потом этим людям годами приходилось добиваться восстановления доброго имени, званий, наград. И выдержать этот бой удавалось не всем.
Зато каратели и убийцы мирного населения – получили по десятке, вышли, и заняли впоследствии хорошие должности.
Немало в тексте повести и других интересных моментов. Примечательно, как автором выведен образ германского фюрера. Это не плакатно — карикатурный бесноватый тиран, а мистик, считающий себя избранным некими высшими силами («Великими Неизвестными»):
«Холодная, скользко изогнутая Вселенная, а в ней солнечно освещенная ниша. Как стеклянная мухоловка. Стенки из синего бесконечного льда. Там, снаружи. Их глаза. В круглой нише, внутри ледяной Вселенной ползают по изогнутой стенке те, кто называет себя людьми. (И воображают, что они не внутри-шара, а на поверхности — «на планете».) Снаружи Они! Глаза льда. Нет, огненные Глаза! Я, только я вижу Их. О, нелегко было выманить Их из тысячелетней дали и выси! И остановить, удержать на себе. На Германии. Мои людендорфы думают, что под Москвой меня русские остановили. Нет, меня, нас оставили Они! Увели Глаза в сторону, и лед пополз, стал побеждать. Огонь отступил. Отвернулись на миг, чтобы мы ощутили, что с нами будет, если оставят насовсем. Как его оставили, отдав в мои руки. Не сибирские дивизии и не Америка страшить должны, а Их гнев. И не гнев это, а внезапное безразличие, отсутствие. Их нет, и лед наступает на нишу. Надо быть Их огнем. Их гневом и ужасом, и тогда Глаза снова смотрят, ждут, требуют. И все идет, как предсказывал я.»
<…>«Нет, мне еще надо было докричаться до них — до Главных Союзников. Политический жаргон, шепоток иносказания для Них не годились. Нужно было во весь голос и открытым текстом. Они должны были увидеть, что я готов исполнить Их дело, погрузиться в такую кровь, на какую никто не решался, по крайней мере, в открытую. Они должны были поверить, что моя борьба — Их борьба. Ведь Им безразлично, куда — с Востока на Запад или с Запада на Восток — течет река крови. Важно, чтобы текла и чтобы это не ручеек был, а всеобновляющий поток, уносящий весь мусор истории, расовый сор. Цена идеи исчисляется кровью. Моя стоит больше — в Их глазах. Ни одна идея не обещала столько очистительной крови, огня…»
Обратите внимание: все это написано в застойные 1970-е гг., время господства советского материализма, когда о мистике Третьего Рейха и об оккультных увлечениях его вождей распространяться было не принято. Это уже потом, в перестройку, да в поздние годы книжный рынок наводнили произведения на данную тему – как переводные издания иностранных авторов, так и изыскания доморощенных «знатоков».
Отсюда можно сделать предположение, что автор, будучи профессором и членом-корреспондентом АН БССР, наверняка был знаком с подобной литературой.
Таким образом, автор в условиях советской цензуры сумел решить несколько сложных задач: рассказал о зверствах нацистов на территории Белоруссии; одновременно — показал лживость советских идеологических мифов о том, что бесчинствовали исключительно немцы + «горстка отщепенцев из бывших кулаков и белогвардейцев»; не премув написать о поразительной снисходительности к военным преступникам со стороны карательных органов, а также о том, что довоенная жизнь вовсе не была раем с молочными реками и кисельными берегами. (В тексте упомянуты и голодомор, и безбожные пятилетки — пусть мимоходом, устами карателей, но тем не менее).
Все перечисленное наглядно подтверждает, что произведения советской литературы и произведения, написанные в советское время — две абсолютно разные вещи.
Как справеливо отметил В.Е. Шамбаров в работе «Государство революции», «пропагандистская штампованная культура ни в коей мере не могла удовлетворить внутренних запросов людей — потому что по сути своей была мертворожденной и искусственной, вынуждена была повторяться и вертеться вокруг одних и тех же избитых тем. А значит, становилась просто скучной. И те, кто жил в это время, наверняка помнят постоянное чувство духовного голода, сопровождавшее всю советскую действительность — погоню за интересными книгами, многочасовые очереди за билетами на интересные фильмы, невозможность попасть на интересные спектакли. Но «интересным» становилось только живое, нестандартное творчество — а оно учило людей думать, и одним этим способствовало раскрепощению сознания. И пусть такое творчество абсолютно не было антикоммунистическим, но оно уже не было и коммунистическим. Не случайно в разряд «крамольных» попадали самые талантливые авторы, актеры, режиссеры, деятели науки и культуры, которые никогда не считались диссидентами, да и не были ими, но силой своего таланта ломали узкие рамки коммунистического мировоззрения».
http://militera.lib.ru/research/shambarov2/03.html
И это истинно так.
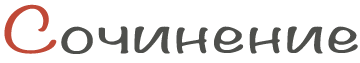
Аргументы для сочинения на ЕГЭ:
- Л.Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир». В этом романе мы видим изображение войны без прикрас, писатель создает картину суровых военных будней, несущих людям кровь, смерть, страдания. Таковы сцены пожара и сдачи Смоленска, картина похода перед Шенграбенским сражением, сцены отступления русских войск. Всюду — сломанные повозки, надрывающиеся лошади, грязь, раненые тела. Разумная, гармоничная природа противопоставлена у Толстого этим картинам военной жизни. Герои романа постепенно начинают осознавать войну как жестокую, кровавую бойню. Так, Николай Ростов, князь Андрей преодолевают свои наивные представления о войне, Петя Ростов тяжело переживает первое совершенное им убийство француза. А затем и сам, совсем юный мальчик, погибает. И это, по мысли писателя, несправедливо, абсурдно.
- М.А. Шолохов — роман-эпопея «Тихий Дон». В этом романе писатель осмысливает войну как беспощадное, суровое действо, несущее людям смерть, страдания, разорение. Мы видим, как конница топчет созревшие хлеба, донская земля горит под ногами. Разоряются и страдают семьи, изменяется на войне человеческая душа. Так, писатель изображает душевный надлом Григория Мелехова. Он тяжело переживает первое совершенное им убийство австрийца. А в финале в герое остается лишь душевная усталость, сердце его грубеет: «…ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны». По мысли писателя, война не только несет смерть и несчастья, она еще и нравственно калечит людей.
- А.М. Адамович — повесть «Каратели». В этом произведении автор говорит о бесчеловечности, ужасах войны. Действие происходит на территории оккупированной Беларуссии. Автор представляет хронику уничтожения батальоном Дирлевангера семи мирных деревень. Мы видим страшные картины: убийство карателями беззащитных людей, уничтожение детей, беременных женщин. В финале автор приводит монологи Гитлера. Писатель исследует здесь саму психологию нацизма, выявляет всю аномальность этой системы.
- А.И. Приставкин — рассказ «Звезды». Герои рассказа — дети, оставшиеся без родителей в годы Великой Отечественной войны. Все они оказались в детском доме и с нетерпением ждут окончания войны, возвращения своих близких. Но праздничная дата (День Победы) омрачается горестным событием — похоронкой на отца, пришедшей одному из ребят — Витьке Козыреву.
- А.Г. Алексин — повесть «Ивашов». Героиня-рассказчица теряет в годы войны близких ей людей — двух подруг, отчима Ивашова, человека мудрого и справедливого, сознающего ценность детства, семьи, любви. Автор осмысливает войну как бесчеловечное действо, приносящее людям горе, страдания.
Вам также может понравиться
- Краткое содержание
- Разные
- Адамович — Каратели
Каратели — краткое содержание повести Адамовича
В повести представлены документальные выдержки уничтожения 7 белорусских деревень карательными войсками Дирленвангера.
В начале произведения перед нами план истребления жителей 1-й деревни Борки. В состав команды Дирленвангером объединены дезертиры и предатели разных национальностей. Полицай по имени Доброскок, узнав в одной из женщин, свою дальнюю родственницу, приехавшую в эту деревню рожать, хотел вначале ее пожалеть. Но он потом спохватился и выстрелил в нее. Во 2-м поселке Козуличи каратель французского происхождения просит Тупигу расстрелять одну семью, которая живет в хорошем доме за кусок сала. Полицай спокойно выполнил его просьбу, так как делал он это не в первый раз.
Читатели вновь возвращаются к женщине в положении, находящейся в состоянии смертного сна. Перед ее глазами всплывают разные картины из детства. По пути в 3-й поселок полицаи Сиротка, Доброскок и Тупига в сосновом лесу видят женщину с детьми. Сиротке хочется учинить над ними расправу, но Тупига опережает его. Когда полицаи ушли, он стреляет в них, но мимо, отпуская тем самым их. Зайдя в деревню, он встречает своих приятелей с награбленным добром. В одной из изб он видит младенца. Для того, чтобы младенец не сгорел живьем, он убивает его.
Один из бывших советских солдат Белый командует ротой предателей, которые стали служить немцам. Он лично обливает сарай, где находилось половина населения села, бензином и поджигает.
Далее перед нами предстает портрет самого жестокого карателя Ивана Мельниченко, которому доверяет все задания уничтожения населения немец Поль. Когда Мельниченко появляется в родном доме, то члены семьи, проклиная его втайне, молятся о скорой его смерти. Борковскую операцию продолжает во главе с Дирленвангером Слава Муравьев, в прошлом лейтенант Красной Армии, попавший в плен, и не выдержав издевательств фашистов, вступает в отряды карателей.
В конце операции Дирленвагер приказывает согнать всех жителей в клуб, самих полицаев в школу, а их семьи в дом напротив. И в конце всех сжигают, полицаев же, думающих о том, что их не тронут, расстреливают и тоже бросают в огонь.
На последних страницах романа показаны документальные факты по самоуничтожению Гитлера и Евы Браун.
Также читают:
Рассказ Адамович — Каратели (читательский дневник)
Популярные сегодня пересказы
- Плавунчик — краткое содержание Бианки
Есть у нас необычная птичка – кулик-плавунчик. Водится она на всей территории нашей огромной страны, от Казахстана до Камчатки. Появляется птичка всегда так же неожиданно, как и исчезает.
- История государства Российского — краткое содержание сочинения Карамзина
Произведение Николая Михайловича имеет очень внушительные размеры, оно разделено на двенадцать томов. Данный труд описывает историю родного государства с момента появления до периода Смуты
- Пигмей — краткое содержание книги Лескова
Рассказ под названием «Пигмей» написан русским писателем Лесковым. Краткое содержание данного произведения представлено в этой статье.
- Двухмужняя — краткое содержание рассказа Шолохова
В основу сюжета легла любовь молодой женщины Анны. Она замужем, но муж пропал без вести. Председатель колхоза Арсений, молодой мужчина влюблён в Анну и он ей не безразличен. Анна понимает, что поступает не правильно, но любовь берёт верх.
