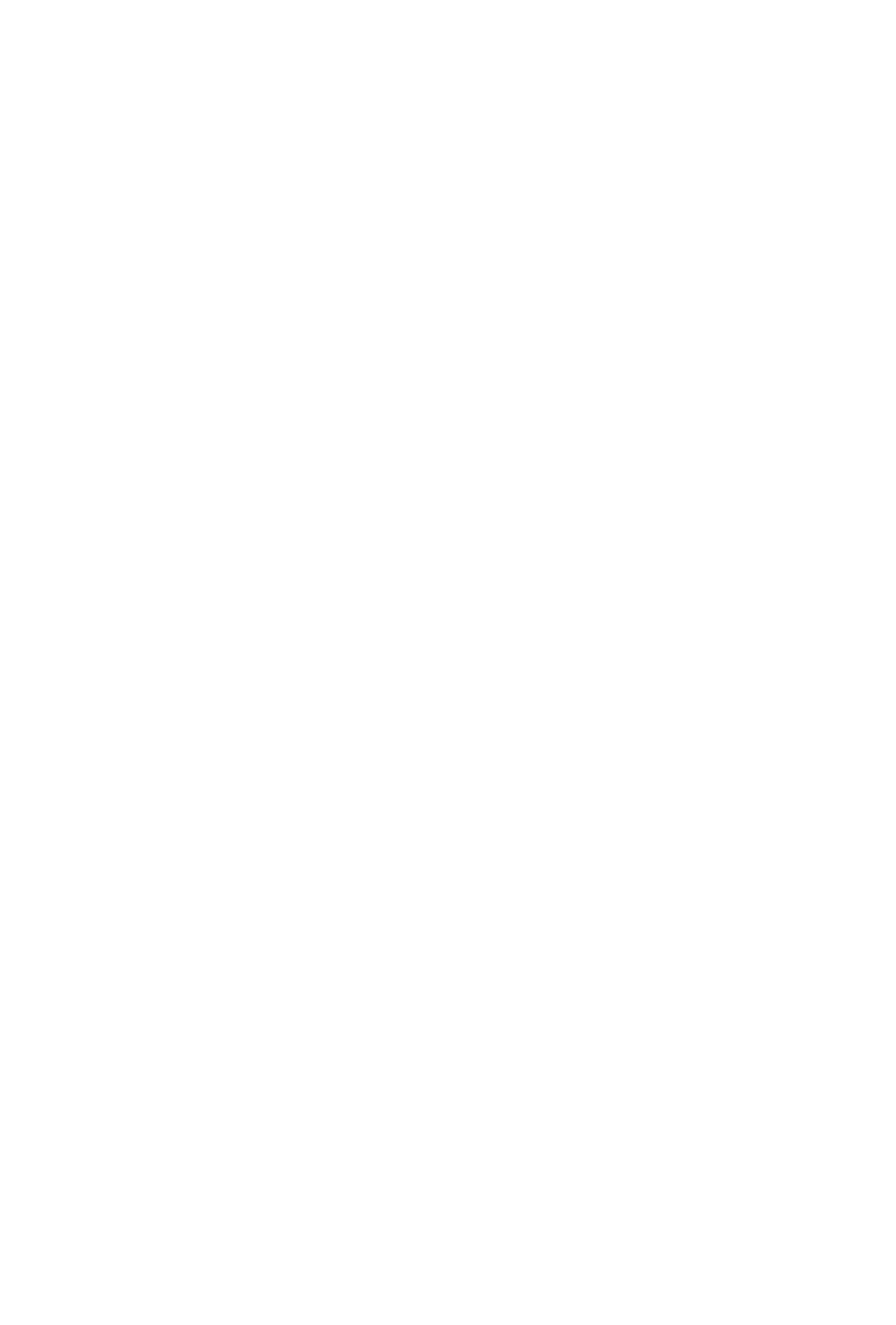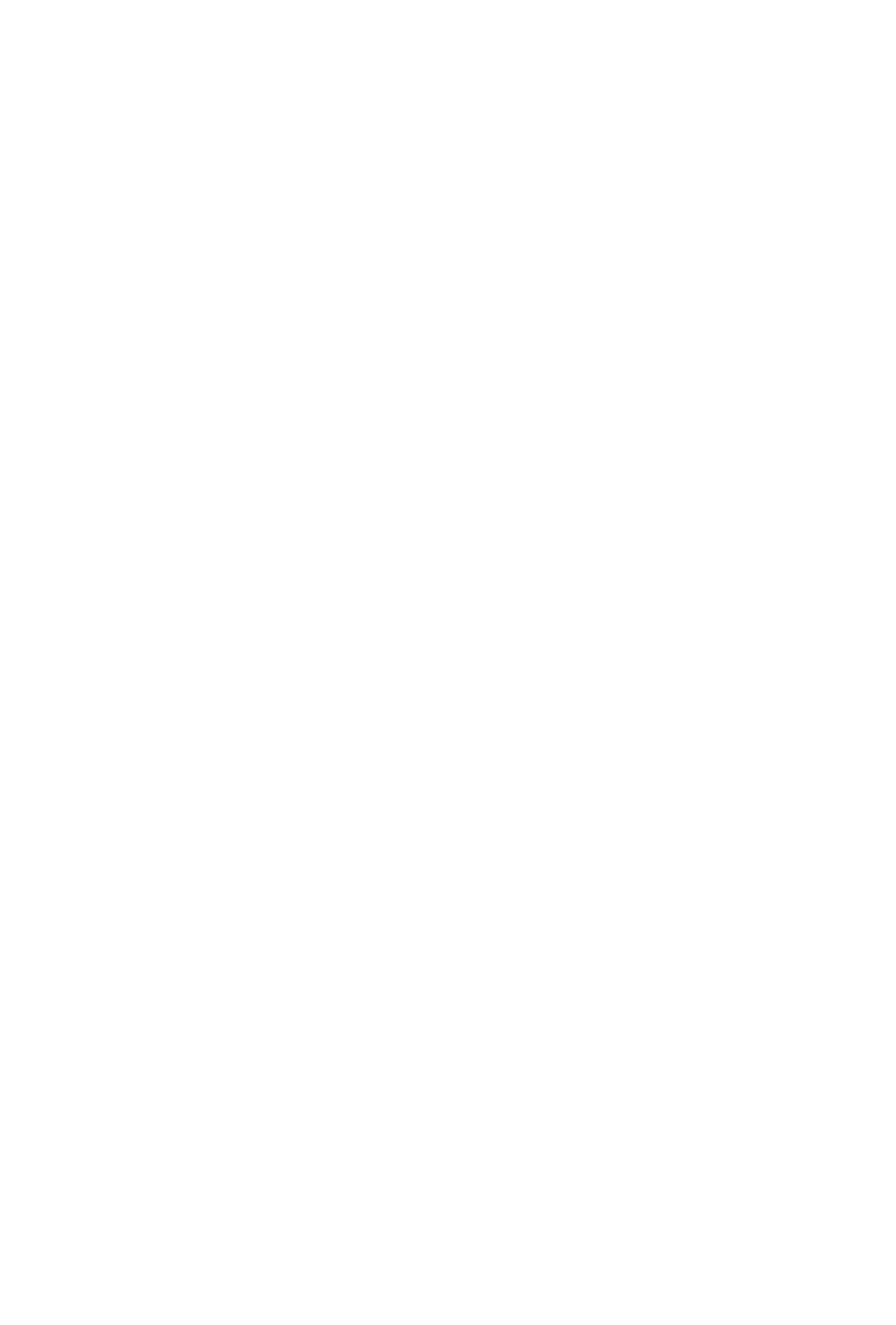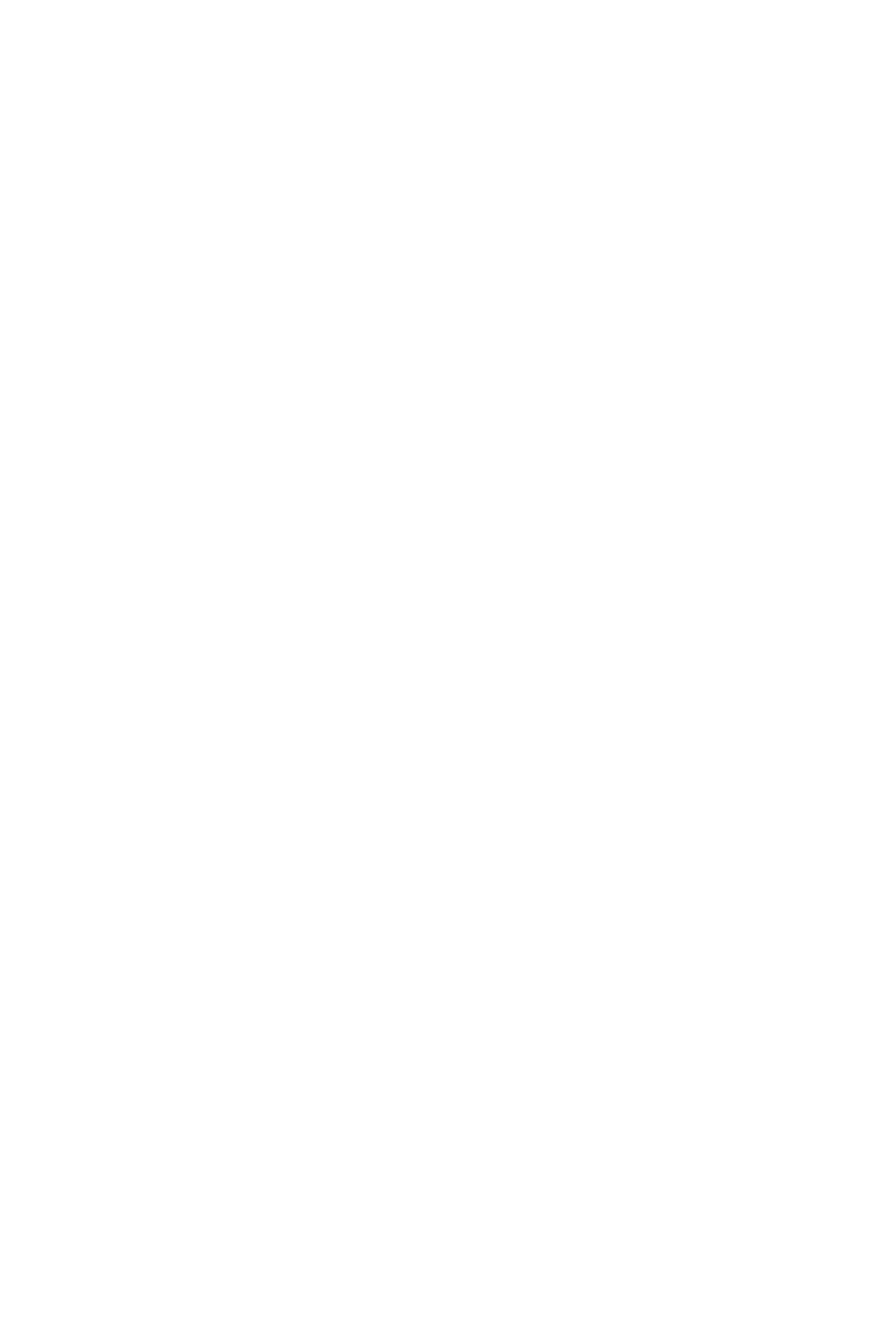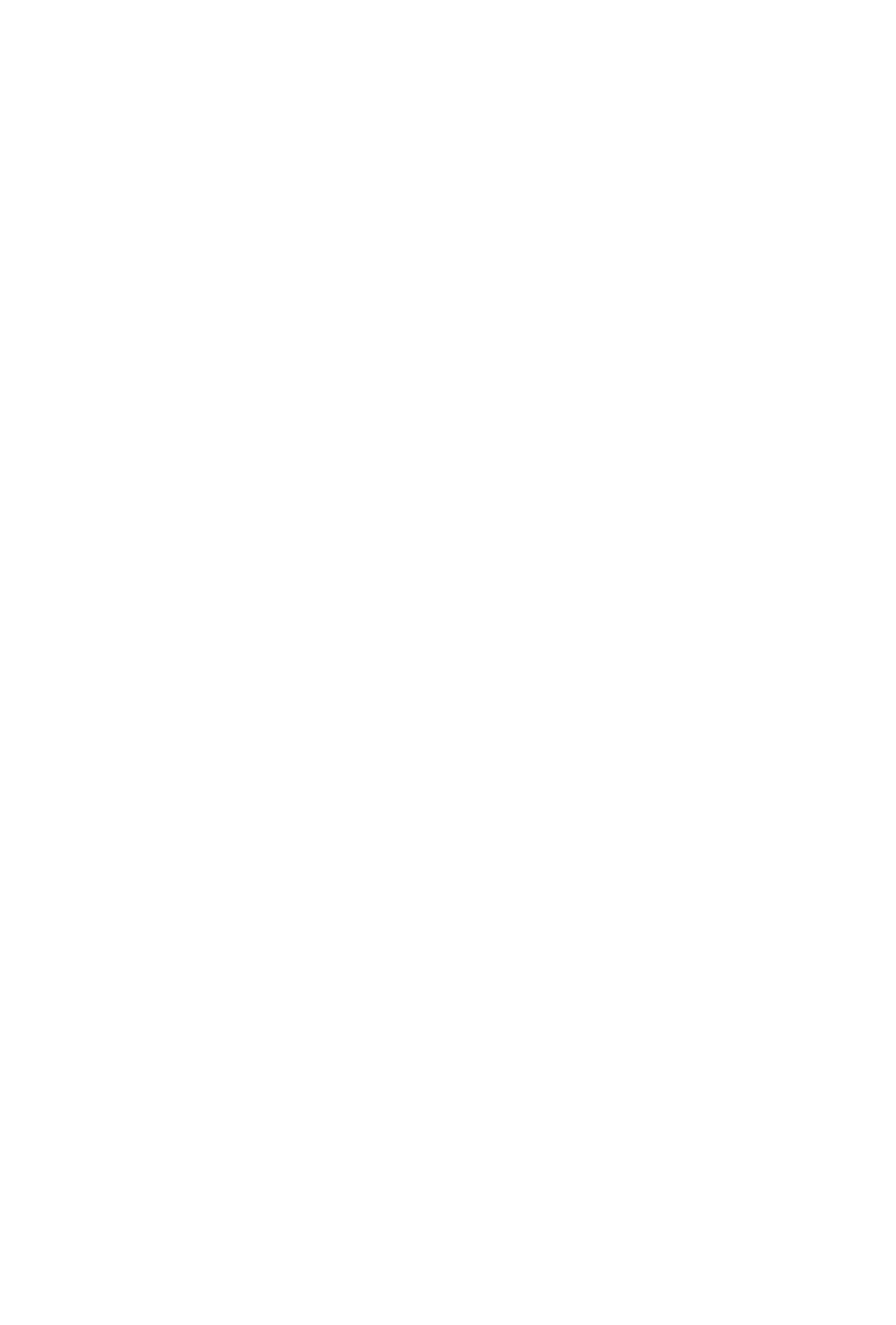Обновлено: 11.03.2023
Война – страшное слово. Война приносит смерть, разрушения, страдание и боль. Она заставляет нас задуматься над важными вопросами. Как влияет война на судьбу человека? Как сделать правильный нравственный выбор в условиях войны? Почему война является страшнейшим преступлением против человечности?
В этом году отмечается 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И главный вопрос, который я хочу задать: Благодаря чему была одержана победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов?
Многие просто не поймут моего вопроса, а ведь суть заключается в том, что молодое поколение стало забывать свою историю, тех героев, кто встал под пули ради нас, ради мира, ради нашей свободы.
Есть и те, кто сегодня восхваляют культуру нацизма, не задумываясь о том, что более 75 лет назад их прадеды погибали за жизнь без рабства и насилия.
Великая Отечественная война стала переломным моментом в жизни многих людей. Кто-то потерял дом, кто-то потерял семью, кто-то остался искалеченным. Война была трагическим событием для нашей Родины.
Большинство людей нашей необъятной страны вели борьбу не только на фронтах, но и в глубоком тылу, предприятия работали и занимались выпуском продукции для фронта. На заводах трудились и дети, и женщины, и старики, чтобы приблизить победу.
Мы всегда должны помнить о подвиге своего народа и о том, что тот, кто забывает свою историю, не имеет будущего.
Нам, поколению 21 века, предстоит ответить на важные вопросы: Как сохранить свое историческое наследие? Как сделать так, чтобы не допустить новую войну? Как уберечь наш хрупкий мир от катастрофы, способной уничтожить всё живое на земле?
Сочинение на тему Никто не забыт
Война – самое страшное, беспощадное и тяжелое время, которое унесло миллионы жизней. Война, как кровожадный зверь, поглощала всё на своем пути, приносила одни несчастья и горе. Война — это смерть, разлука близких…
Она оставила неизгладимый след в памяти многих людей. Память о ней не сотрется никогда! Я думаю, что нет семьи, в биографии которой не остался бы страшный след того времени. И моя семья не исключение.
В моей семье есть участник Великой Отечественной войны по материнской линии. К сожалению, я его не видел (видел только на фотографиях), умер он, когда меня не было на этом белом свете. Но о нем я знаю только по рассказам дедушки.
Тува – это место, где сохраняются национальные традиции и уникальные памятники истории человечества. Там есть село, где есть улица, имени героя Великой Отечественной войны, Оюн Хурен-оол Дагбаевича. Это село Ээрбек Кызылского района. И на берегу великой матери реки Енисей стоит памятник, в котором высечено имя героя, воевавшего в Великой Отечественной войне.
Родился Оюн Хурен-оол в с. Ээрбек Пий-Хемского района в 1918 году. Трудолюбивый и добрый с детства, как отец, сильный как лев, человек. Тогда в Ээрбеке поля были плодородными, там жили русские богачи, они держали сельское хозяйство, а китайцы сажали пшеницу, бедных аратов села принуждали работать на них.
Из рассказов дедушки о войне особенно памятен такой случай. В 1943 году в бою за Ровно-Сурмичи-Дубно он уничтожил два вражеских пулемета. Потом прадедушка был ранен в левую руку, но госпиталь не поехал, остался помогать работе эскадрона. Я думаю, что только человек с большой душой и любящий свою Родину, остается воевать, не смотря на ужасы той беспощадной войны.
Горжусь, что я являюсь правнуком героя Великой Отечественной войны. Именно на таких людей надо равняться, на людей, которые учат трудолюбию, бесстрашию, отваге и любви к Родине.
Проходят годы… Но мы, подрастающее поколение, должны помнить о тех людях, которые сражались за наше мирное небо над головой. И только мы должны выражать благодарность ветеранам, свидетелям того ужасного времени.
Никто не должен забывать о подвиге нашего народа, помнить и гордиться тем, что нам оставили наши предки. Недаром говорят: пока жива история, жива память. А пока жива память, жива история.
Сочинение на тему Письмо ветерану
Есть такие люди, говоря о которых, в сердце каждого человека просыпается чувство гордости, благодарности и безмерного уважения – это ветераны. Много лет назад, они несмотря ни на что героически защищали нашу Родину, освобождая захваченные в плен города и безжалостно давая отпор врагам. Со дня победы прошло много лет и большинства из этих великих людей уже давно нет с нами. Но что было бы, если бы каждому человеку предстояло написать ветерану письмо?
Писать письмо ветерану одновременно и очень волнительно, и очень трудно. Не сразу удается подобрать правильные слова, чтоб описать всю значимость совершенного им подвига. Эту благодарность невозможно передать словами или измерить какими-то наградами. Значимость подвигов ветеранов, она настолько высока, что едва ли во всем мире найдется хотя бы одно слово, которое в полной мере описало бы ценность их пролитой крови, понесенных жертв, разлук, тяжелых испытаний и множества опасностей, пережитых на поле боя.
Я искренне верю, что все сокровища мира должны доставаться не миллионерам, а людям, которые несмотря на риск, страх и боль, осознанно шли на войну, чтобы защитить свою землю, чтобы показать всему миру, что дух нашего народа не сломить, что человека можно уничтожить, но нельзя заставить его отказаться от Родины.
Но ветераны – это не только те люди, что воевали на поле боя, есть и те, о которых незаслуженно забыли – медсестры, врачи, летчики, которые доставляли раненых в госпитали, рискуя своими жизнями, и делали все, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.
Невозможно написать письмо одному ветерану, потому что сотен тысяч писем благодарности заслуживают все люди, кто пережили те страшные для страны времена, но до последнего вздоха верили, что все не зря и победа не за горами. Подумать только, сколько мужества в людях, которые готовы оставить все, что им дорого – семьи, дома, чтобы плечом к плечу со своими единомышленниками биться с врагами, понимая, что каждый из них может никогда не вернуться домой.
Несмотря на то, что война закончилась много лет назад, события тех страшных времен до сих пор хранятся в памяти миллионов людей, чьи семьи коснулась эта трагедия. И хотя много лет прошло, до сих пор – никто не забыт, ни что не забыто, мы помним, мы гордимся!
Никто не забыт, ничто не забыто – сочинение
В годы войны, которая длилась на протяжении почти четырех лет, проливались реки слез и крови. Потери были очень большими, погибло около 27 миллионов человек, а свыше 4 миллионов пропали без вести.
Огромное количество человеческих судеб было сломано, разрушенные семьи, вдовы, дети сироты. Поэтому ничего страшнее войны быть не может, те же стихийные бедствия не сравнятся с войной. Ведь стихийные бедствия не подвластны человеку, это сила природы, а военные действия ведутся исключительно людьми, которые готовы убивать друг друга ради достижения своих целей.
Уже прошло много времени, как закончилась Великая Отечественная война, но я могу с уверенностью сказать, что наше поколение помнит и чтит подвиг советского народа в тяжелые годы войны, которые, несмотря на всю тяжесть, отстояли свою огромную страну от фашизма, ради дальнейшего мира и свободы своих потомков.
Наши солдаты сплотились воедино общей бедой, шли напролом, и не дали очень сильному властному и расчетливому врагу не малейшего шанса на победу.
Не так давно появилась новая традиция, каждое 9 мая, люди всех стран выходят на свои местные площади с фотографиями своих героев, и идут бессмертным полком, с каждым годом количество людей, участвующих в этом марше становится больше.
И это прекрасно, ведь очень важно помнить своих героев, их героизм, смелость, отвагу, ведь их сознание долга перед своей Отчизной перекрывало страх, боль, даже мысли о смерти. Рассказывая о войне, о родственниках, которые прошли войну, мы тем самым показываем пример своим детям любви к своей Родине.
И так из поколения в поколение мы передаем память о своих героях, гордимся их подвигом, и конечно понимаем какой тяжелой ценой далась им эта победа. Затем были еще тяжелые послевоенные годы, когда нужно было, очень много работать, чтоб восстановить все разрушенные города и села.
Эссе о войне Никто не забыт
Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах людей, несмотря на то, что годы забирают ее участников и свидетелей. Однако наш народ чтит историю своей страны и гордится ее прошлым. Наше поколение создает новую Россию, но оно опирается на то, что было создано нашими предками. Их героические поступки подарили нам жизнь и мирное небо над головой.
Миллионы людей погибли за то, чтобы мы могли жить. Такие действия не могут быть забыты. Наша страна обязана хранить вечную память об этих людях, а тем, кто жив, обеспечить достойное проживание. Мы, нынешнее население России, не сможем понять те трудности, ту тяжесть, которая выпала на жителей в военное время.
Люди постарше отлично помнят страшные события войны, так как почти каждая семья потеряла близких людей. И как бы много ни прошло лет, мы не должны забывать об этих людях, героев мы обязаны чтить. И даже через десятилетия мы должны передавать истории и геройских подвигах наших бабушек и дедушек нашим детям и внукам.
В военные годы положение в стране было достаточно тяжелым. Люди боролись за победу как в тылу, так и на фронте. Каждый из людей боролся за счастливое будущее нашей страны. Многие отдали жизнь во имя русского народа. Героические действия врачей и медсестер, которые ежедневно вылечивали тысячи людей, зашивали раны, меняли повязки, не могут быть забыты.
Нельзя умалчивать о тех, кто привозил на фронт продукты и снабжал солдат необходимым питанием. Самым важным для любого солдата была его семья. Великие женщины, растившие детей, пока их отцы сражаются за Родину, натерпелись немало трудностей.
Все граждане в это нелегкое время сплотились и трудились во благо мирной жизни. Их поступки не могут быть стерты временем. Наша задача – обеспечить этим людям достойную жизнь и вечную память.
Мы всегда должны вспоминать о том, что именно благодаря ним мы живы, можем ходить по свободной земле, мы вольны заниматься тем, чем нам угодно. Помнить о поступках всех людей во время Великой Отечественной войны – наш гражданский долг. Нести в сердцах их подвиги человечество должно сквозь столетия. Никто не забыт, ничто не забыто.
Читайте также:
- Мечта и реальность сочинение преступление и наказание
- Сочинение нам не нужна война 4 класс
- Сочинение на тему выбор софьи
- Сочинение по рассказу шрам
- Сочинение who inspires me
ЭТИ ТАКИЕ ЖИВЫЕ СТРОКИ…
(воспоминания фронтовика)
О той войне ужасной,
Самой бесконечной той войне,
Где смерть ходила вслед за славой,
Где год за десять был вполне.
О той, Отечественной, страшной,
Где жизнь была ценой в пустяк!
Мужчины погибали наши,
А иногда за просто так…
Потом, конечно, были войны,
Но всех их не сравнить с одной,
Так будем памяти достойны,
Оплаченной такой ценой!
П. Давыдов.
Как часто мы говорим о войне, но мало кто из нас, молодого поколения, может прикоснуться к истории в истинном ее проявлении, услышать рассказ не приукрашенный, а настоящий, без редакции. Рассказ от человека, пережившего ужасы тех страшных лет. К счастью, все мое сознательное детство прошло рядом с прадедушкой, который считал своим долгом воспитать во мне уважение к героям Великой Отечественной войны, к их подвигу. Повествование было настолько подробным, что у меня появилась уникальная возможность представить повествование в форме дневниковых записей.
5 марта 1943 год.
Сегодня в 10 часов утра, я очнулся в военно-полевом госпитале, который бог знает где находился. Долго лежал, вспоминая, что же со мной произошло, почему я перебинтован, кто я…
Постепенно в моем сознании стали всплывать факты из моей прежней, мирной жизни. Я вспомнил, что зовут меня Тимофеем Пеликовым, что недавно, на поле боя, меня произвели в младшие лейтенанты пехоты, что есть у меня жена Анастасия тоже там, далеко, в мирной жизни, на дальнем Востоке, в Приморье, в небольшом поселке Липовцы; всплыли в сознании любимые дочурки, Раиса и Фаина. Но почему я здесь?!
Внезапно, словно по мановению волшебной палочки, моя память стала подсказывать события недавнего прошлого: передо мной с отчетливой жестокостью встали события последних дней. Мне стало все ясно… Глупец! Какой же я глупец!..
Проводя секретную разведывательную операцию с целью захвата немецкого «языка», я чуть было не попал в плен. От этого воспоминания стало не по себе… Я ведь мог все провалить! Но память услужливо, с какой-то извращенной жестокостью продолжала подсказывать мне события последних дней. Помню, как с группой бойцов мы отправились в тыл врага. Дело бывалое, не раз приходилось пролазить почти под самым носом у гитлеровских прихвостней. Я не понимал немецкого языка, но все же некоторые слова и фразы выучил во время вот таких вылазок и хорошо различал их в немецкой речи.
И вот перед нами показался немецкий лагерь. На удивление в нем все было спокойно. Даже следов на свежевыпавшем снегу было немного. Мы видели только часовых, охранявших покой фашистов. Кругом колючая проволока, бочки с горючим. За оградой слышался лай овчарок. По коже пробежал мороз: нас намного меньше, чем фрицев! Задание казалось невыполнимым. Наша группа притаилась в небольшом овраге, расположенном совсем рядом. Я ждал удобного момента, примечая между тем расположение техники, расстановку часовых, количество немецких палаток.
И вдруг от лагеря, к нашему оврагу, двигался немец. Я уже ясно видел его лицо. Враг был в прекрасном расположении духа, очевидно, после сытного завтрака. До моего слуха донеслось пиликанье губной гармошки и терпкий запах табака. Я начал впадать в ярость: «Сволочь! Топчет нашу землю ногами! Спит и видит, что где-нибудь себе барствовать станет, земли русской в награду за войну получит! Фриц!»
Мои ребята тоже замерли в овраге. Нужно что-то делать! Немец был все ближе. И тут инстинкт самосохранения подсказал мне выход из этой непростой ситуации: необходимо подождать, пока эта гнида подойдет близко к нашему укрытию, втянуть его в овраг таким образом, чтобы не успел закричать, не успел достать оружие. Уложить его надо было на пузо, которое у него, кстати сказать, прямо так и выпирало из-под кителя. Я почувствовал еще большее отвращение к этому «пузырю» в штанах. Но делать нечего – надо было брать!
Мы подождали, пока он еще ближе подойдет к нам и дружненько втянули его в овраг, засыпанный рыхлым снегом, немец даже и пикнуть не успел. Все вышло так, как мы хотели: враг повалился лицом в снег, не успев даже и сообразить, что происходит. Мы быстренько разоружили его, кто-то из пацанов не удержался и дал фашисту оплеуху. Тот присмирел. Когда над ним замахнулись еще, он прошептал: «Найн! Не бейт! Не бейт!» Я посмотрел на него и остановил ребят: «Хорош, парни! Из него итак на допросах кишки-то повымотают!» Что ж, задание выполнено: «язык» взят, пора возвращаться. Стали потихоньку выбираться из оврага, да еще и жирную немчуру за собой тащить. Это было нелепо! Тащить эту паскуду на себе, пусть топает на своих двоих! Кто-то опять наградил его кулаком. Немец заворчал, но стал двигаться живее.
Все шло по плану. Но вдруг возле небольшой речушки начался обстрел. То ли нас заметили, то ли еще что-то произошло… Земля смешалась со снегом, то тут, то там черные брызги… Наши ребята быстро потеряли друг друга из виду, я остался с пленным один на один. Немец обезумел от страха: он что-то кричал, размахивал руками и непонятно как, но освободился от веревки, связавшей его руки. Я пытался было скрутить его, но он ударил меня наотмашь и вынул из-за пояса нож. Фашист ринулся на меня с криком: «Швайн!» Я знал, что обозначает это слов и рассвирепел! С новой силой бросился я на гада, но вдруг почувствовал обжигающую боль в левом бедре – немец воткнул в него нож. Снег смешался с кровью. Река была близко. Борьба продолжалась. Мы барахтались возле самой воды. Под пулями и рвущимися снарядами мы боролись за свою жизнь, только у меня были преимущества перед немцем – я боролся за всю страну, боролся за Родину, за детей, за жену, за дом родной. А этот за что?! За пядь земли, которая для него ничего не значит! Сволочь! Такие мысли вспыхивали в моем сознании раз двадцать, пока мы возились в снегу.
Перед моими глазами внезапно мелькнула вода и обломки льда. Вероятно, река вскрылась от бомбежек. Дело плохо. И тут мы оба скатились в воду. В глазах у меня все замелькало, зарябило. Взрыв – и пустота, я больше ничего не помню. Уши заложило, я выпустил из рук «языка». «Контузило!» — было моей последней мыслью.
Очнулся я в госпитале. Здесь ко мне подошел военный врач. «Здорово, браток! — послышался голос словно издалека, — ты в рубашке родился. Выловили тебя из-под льда, из ледяной воды. Ты про «языка» все твердил, а потом и сознание потерял».
Я смутился. «А где же немец?» — спрашиваю. «Доставили твоего «языка», не беспокойся! — улыбаясь, ответил врач, — Выполнил ты задание!» «А где ребята?..» — тут голос мой дрогнул. Врач, казавшийся таким приветливым, вдруг резко осекся и отвернулся. «Ребята где?» — прошептал я. «Все вы герои» — ответил мой собеседник и поспешил побыстрее уйти.
Я лежал, вытянувшись на кровати, ноги были налиты свинцом, а теперь он стали вообще чугунными. К горлу подступил предательский, противный комок, хотелось кричать от гнева, горя и бессилия. Скорее бы опять на фронт, бить врага, отмстить за своих ребят. А впереди была жестокая, беспощадная война, которая не имела конца.
Эти воспоминания оживали в памяти моего прадеда, ветерана и инвалида Великой Отечественной войны. Он рассказывал, а передо мной вставали картины тех ужасных, кровавых лет. Прадед выжил, вернулся к мирной жизни, но события далекого и грозного прошлого бередили его память до конца дней. Эти воспоминания он передал мне, и я горда тем, что хоть немного смогла прикоснуться к истории, узнать о жизни героя на поле брани, услышать о примерах истинного мужества и стойкости.
МОБУ «ЛИПОВЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»
СОЧИНЕНИЕ
«ЭТИ ТАКИЕ ЖИВЫЕ СТРОКИ!»
(ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА).
ВЫПОЛНИЛА:
Лобанова Татьяна, ученица 10 класса.
П. ЛИПОВЦЫ 2016 Г.
Автор: Джафарова Тарлана Эльшановна
Место работы/учебы (аффилиация): МБОУ Ухоловская средняя школа, Рязанская область, 9 класс
Работа посвящена бородинскому сражению.
«24 августа
Прошёл еще один день! Сегодня ночью часто разносились взрывы. Никак не мог заснуть, хотя к звукам этим уже привык, но не об этом. Ходят слухи, что французы будут наступать на Москву…
В отряде нас 120 человек, и капитан. Такой строгий дядька, но справедливый.
Лишь одним своим взглядом даёт понять, что нужно делать. Человек он простой, хоть и капитан, всё время что-то записывает себе в блокнот, наверно, как и я ведёт дневник. Из хлопцев подружился с Андрейкой и Федькой. Андрей из Петербурга, с детства хотел стать лекарем, но судьбинушка затянула его в солдаты. У него странная манера общения: говорит вполголоса и не спеша, честно говоря, меня это иногда бесит, а так, в общем, он спокойный, но, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Федька — полное противоположение Андрея (но судьба нас свела вместе). Представьте белку, которая не сидит на одном месте, вот это всё Федя. Он среди нас — весельчак. Даже в самых сложных ситуациях найдет над чем пошутить. Конечно, много хороших хлопцев у нас в батальоне, но знаю их очень плохо.
Погода сегодня чудесная: тишь да гладь, на небе полная луна, звёздный небосвод… Я у костра. Не знаю, что будет завтра, но мне надо заснуть. Заснуть, чтобы проснуться.
25 августа
Вот и новый день! Я проснулся! Я жив! Пять часов утра. Иду прогуляться, а заодно дровишек собрать. Ночью был сильный дождь.
В лесу на душе легко. Красотища! Сосны, ели, берёзы — всё такое родное, такое любимое! На листьях березы сверкают капельки росы, будто бриллианты на прекрасной даме. Это моя Родина!
Не могу даже представить, что это всё могут отнять…
Задумался я и на тебе… в дали мелькнула папаха, сообразил я, что француз это. Увидев меня, он побежал, а я за ним, прыткий лягушатник оказался. Все лёгкие выжал, пока бежал, но всё равно догнал (я ещё в школе хорошо бегал).
Я ему говорю: «Имя?»
А он мне: «Алонс.»
Тьфу, о чем он? Язык сломаешь, ну понял, что нашего он не знает и повел его в лагерь. Франц-то ещё молоденький, на служивого не похож. Так какого он в наших краях делает?
Короче, привёл я его в лагерь. Все уже проснулись. Федька в своём репертуаре: «Кирилл, а почему ты не говорил, что у тебя сын есть?»
Я ему хлясь по лбу, чтоб знал, что говорит. А ему хоть бы хны, ржёт, как осёл на пшено. Подошёл капитан, который строгий, но справедливый, стал на французском спрашивать. Мальчишка не из пугливых оказался, на вопросы отвечал чётко.
Эх, жалко, я французского не знаю.
Мальчишку закрыли… Что с ним будут делать? Нам ничего не говорят…»
Дневник Победы
В этом году наша страна отмечает
знаменательную дату в истории 20 века, 70-летие Великой Победы. Для моей семьи
– это важная дата, ведь мой прадед воевал в 1941-1942 годах, он был танкистом,
после ранения не смог далее участвовать в войне, все-таки вернулся на фронт и
стал работать военным журналистом. Его статьи печатались в районной газете, я
не нашел их в архивах, хотя мы с мамой обращались туда, но я много раз
перечитывал его письма прабабушке и двум сыновьям. Эти письма полны веры в лучшее,
доброе, светлое. Я всегда удивляюсь, почему мой прадедушка так проникновенно
говорит о Победе и ждет ее, и верит в сослуживцев, наверно, потому что искренне
любит свой край, свою родину.
Сегодня немногие могут сказать, что
он – патриот, что он гордится своей семьей и родиной, потому что в людях угасла
искра веры в себя и в других, необходимо помнить о тех кровопролитных и
смертельных годах войны, чтобы ценить себя, семью, отечество. Надо помнить
имена своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны, помнить их
поступки, их храбрость, героизм, терпеливость.
Нам сложно представить, что краюхой
хлеба человек может быть сыт, что важно помнить о сослуживцах, что последнее
необходимо отдать раненым, старикам и детям.
Мой прадед до конца войны прошел путь
наших воинов, пусть и не с оружием, но с листком бумаги, помогая выразить
чувства и мысли тех, кто был убит, кто хотел вернутся домой, кто хотел жить, но
понял, что нужно сделать выбор между благополучием потомства и своей смертью.
Я собрал информацию о своем прадеде,
Викторе Викторовиче, и хочу поместить ее на сайте «Бессмертного полка», чтобы
мои дети и внуки помнили, кто стоял за Великой Победой, кому мы обязаны, кому
должны поклониться и вспомнить, когда нам трудно, когда важна поддержка.
Пример сочинения 1
Великая Отечественная Война — самая страшная война за всю историю нашего человечества. Она унесла более двадцати миллионов человеческих жизней. Война не просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой в летописи каждой семьи. Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая Отечественная Война – это след и в судьбе моей семьи, который не сотрется временем.
Мою семью война тоже не обошла стороной. В этой войне участвовал мой прадед Локтионов Василий Матвеевич. Его призвали на фронт осенью тысяча девятьсот сорок первого года, и он новобранцем попал на Калининский фронт. Ему и многим другим предстояло остановить врага на подступах к Москве. Им было тяжело, но они с этой задачей справились. Впоследствии мой прадедушка воевал под Сталинградом. Там ему и его товарищам тоже приходилось нелегко. Была суровая зима, не хватало еды и боеприпасов, но они мужественно, несмотря ни на что, смогли не только остановить врага, но и окружить и разбить его.
Мой папа рассказывал мне, что это единственное в истории сражение, где была уничтожена целая армия врага. Прадед получил тяжелое ранение и контузию. С полученными ранениями пролежал три месяца в госпитале и, не долечившись, отправился на фронт. После прибытия в свою воинскую часть, он продолжал героически сражаться с врагом. Настали тяжелые фронтовые будни. Ему было тяжело после полученного ранения, но он пережил всё: гибель однополчан, предательство командования, глаза местных жителей, наполненные слезами. Война распорядилась его жизнью не в лучшую сторону. В тысяча девятьсот сорок четвертом году, когда мой прадед боролся за освобождение города Керчь, он погиб.
Моя семья до сих пор чтит память о моём прадеде, который боролся с фашизмом. И я тоже благодарна своему прадеду за мирное небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха. Наше поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш народ за свободу и независимость нашей родины.
Память о войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна.
Пример сочинения 2
В нашей стране нет ни одной семьи, где бы ни чтили память героев Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов советских людей. Эта война оставила не заживающий след в истории каждой семьи и сделала настоящими героями, достойными любви и подражания многих простых людей. Все русские люди помнят бессмертный подвиг воинов освободителей и с особым трепетом и любовью вспоминают своих предков, бабушек и дедушек, родителей и родственников, живших в то тяжелое время.
Моя бабушка часто рассказывала нам историю жизни наших родственников, прошедших через военные годы и погибших на полях сражений.
Мой прадед погиб под Москвой в 1941 году, защищая столицу нашей Родины. Он долго числился пропавшим без вести, и только в 1988 году отряд поисковиков помог отыскать место его захоронения. Его брат прошел всю войну и, к великой радости родителей, вернулся живой, но весь израненный и больной. Он ни когда не любил рассказывать о тех годах, так тяжела и горька была память о страшных боях и погибших друзьях и однополчанах. Но всегда, всей своей последующей жизнью, он чтил память своих товарищей, не пришедших с фронта, и всегда старался брать с них пример. Каждый год всей семьей мы ездим почтить память моего прадедушки и поклониться всем воинам, погибшим в тех тяжелых боях.
Невозможно описать всех тягот и лишений, выпавших на долю простых людей в тылу, работавших на оборонных заводах у станков по 12-15 часов в сутки. Наша семья жила в городе Горьком, и моя прабабушка работала на автомобильном заводе. Город постоянно бомбили фашистские самолеты, на заводе горели и рушились цеха, гибли люди, но, ни на минуту, не прекращался выпуск военной техники и снарядов. Люди неделями не уходили домой, спали и ели у станков, чтобы немного отдохнув, снова работать для общей победы. В основном там были женщины и дети. Некоторые были совсем маленькие, 15-16 лет, и, для того чтобы доставать до оборудования, им приходилось вставать на большие ящики. Очень тяжело было с продуктами и медикаментами, ведь все отдавали на фронт, для бойцов, но никто не роптал и не падал духом. Все верили в нашу победу и делали все возможное для ее приближения.
Нам, детям мирного времени, очень трудно представить всех ужасов тех дней, но мы ни когда не должны забывать героев, прошедших всю войну, погибших на полях сражений и тех, кто работал на заводах и фабриках, в колхозах и на полях, приближая светлый день победы. Вечная Слава Героям!
Пример сочинения 3
Великая Отечественная война 1941-1945г. Не обошла стороной и мою семью. Это одна из самых ужасных войн в истории нашего государства. Война оставила глубочайший след в душе каждого человека нашей огромной страны и досталась большой ценой, было пролито очень много крови за свободу и независимость Родины.
Своей жизнью мы обязаны нашим дедам и прадедам, которые не испугались войны и сражались до последнего вздоха, доказывая свой патриотизм стране. Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои семьи. А ведь были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Именно их мы должны благодарить и постоянно помнить за подаренную нам жизнь.
В моей семье тоже воевал прадед, Михин Василий Андреевич. Жил он в поселке Луна, Шарлыкского района. Их семья нечем не отличалась от рядовой.
Жили скромно, но это не мешало воспитывать детей в любви и заботе. Прадедушку забрали на фронт 12 июня 1941 года в возрасте 32 лет. К этому моменту у него было четверо детей, и все девочки. Предпоследней дочкой была моя бабушка. Она совсем плохо помнит папу, ведь когда его забрали на фронт, ей было всего три года. На протяжении войны он несколько раз возвращался домой, так как был сильно ранен. Часто писал письма в родной дом любимой семье. Жене было тяжело без мужа, его поддержки и заботы, особенно когда надо воспитывать и кормить четверых маленьких детей. Голод был страшный, так как вся еда и запасы отправлялись на фронт, прокормить армию, а обычному населению приходилось есть то, что было, чтобы не умереть с голоду. В основном это была еда с огорода и различные травы и ягоды, большего выбора не было. Такая жизнь продолжалась до 1943 года. После все изменилось, и уже навсегда… 8 августа 1943 года прервалась связь с рядовым Василием Андреевичем. Больше его никто и никогда не видел. Последнее письмо он написал за месяц до трагедии, где передавал приветы дочкам и верил, что скоро все закончиться и наступит спокойная, мирная жизнь. Но увы этого не произошло. Сообщили, что он пропал без вести и родственникам даже не прислали похоронку. Самое ужасное не знать где находиться родной человек, жив ли он? Возможно, взят в плен, догадок было очень много, но к сожаление никаких результатов. Время шло, но семья каждый день ждала весточки с фронта. Дети подрастали и уже с раннего возраста шли работать, денежную прибыль им это не приносило и они работали за трудодни.
Было очень тяжелое время в жизни каждого человека. Война была жестокая, и не щадила ни детей, ни стариков. Солдаты из последних сил бились за свою страну и народ. Справедливость восторжествовала, и все закончилось победой великого государства-России. 9 мая 1945 года закончилось Великая Отечественная Война. Долгих четыре года люди жили в страхе и ужасе, который происходил с ними. 1418 дней наша Родина шла дорогами тяжелейших войн, чтобы спасти все человечество от фашизма.
И вот спустя 70 лет никто не забыл подвиг наших солдат. Историю про моего прадедушку, рассказала мне бабушка, письмо так и не пришло. И уже 72 года он считается пропавшим без вести. Это история передаётся уже третьему поколению и будет передаваться дальше. Страшно видеть войну, и страшно ее пережить. Такое невозможно забыть никогда.
Я горжусь своим народом и выражаю огромную благодарность за полученную жизнь, которой могло и не быть! Никогда и никем не будет забыта война 1941-1945 года. Я буду всегда это помнить и гордиться!
Пример сочинения 4
В нашей семье я не застала в живых непосредственных участников Великой Отечественной войны, но след её ощутим и память о ней передаётся от старших поколений. Дед прошёл всю войну в составе боевых частей, чудом остался жив, дал жизнь моему отцу и умер в далёком 1976 году, когда меня не было на свете. До сих пор жива бабушка, которая всю войну прослужила в тылу, на одном месте, техником-связистом центрального телеграфа.
Источники семейной памяти о войне – рассказы бабушки, рассказы про деда и боевые награды деда, хранящиеся в семье. У бабушки нет наград, но она как-то вспоминала, сожалея не о награде, а об упущенных льготах, что её пытались представить к ордену, но, сильно заболев, выпала из зрения коллектива, и награда, в спешке, «нашла другого героя» (бывало и так).
Моя бабушка — Елена Николаевна, 1918 г.р., русская, уроженка г. Искитим, Новосибирской области. За год до войны закончила Новосибирский техникум связи, после чего была командирована в Казахскую ССР. Успела получить правительственную благодарность за участие в создании системы связи Казахстана и с первых до последних дней войны проработала на центральном телеграфе г. Новосибирска, практически не покидая своего рабочего места, без сна и отдыха не днями, а неделями.
Так трудилась вся страна, но работа бабушки вызывает у меня особый интерес и уважение потому, что она все годы войны находилась в центре бездонного информационного водоворота: непрерывный поток правительственных телеграмм с пометкой «Молния», приём и передача сводок Совинформбюро, бесконечные срочные междугородние переговоры. На другом конце провода крики родных ей девчат-связисток, знакомых только по голосу, о том что их бомбят и они прерывают связь, слышны разрывы снарядов. Бабушка не видела фронт, но часто слышала его и, порой, переносить это было тяжелее, чем видеть воочию.
Новосибирск в то время принимал и разворачивал сотни эвакуированных частей, госпиталей, десятки крупных военных заводов, непрерывно комплектовал и отправлял на фронт боевые части, продовольствие, технику, вооружение и боеприпасы, превращаясь на глазах в мощный промышленный центр.
Страна очень нуждалась в бабушке и она выполнила свой долг с честью и до конца.
Мой дед – Илья Андреевич, 1925 г.р., русский, уроженец с. Мильтюши, Искитимского р-на, Новосибирской области. В 1942 году, приписав себе лишний год, сбежал на фронт. Всю войну прошёл в звании рядового и сержанта, в составе войсковой разведки. Победу встретил в г. Щецин (западная Польша). Боевые награды: два ордена «Красной звезды», восемь медалей, две из которых — «За отвагу». Медали «За отвагу» он называл самыми дорогими наградами, или солдатскими орденами.
О войне рассказывал очень скупо. Войну ненавидел. Фильмы о войне сам не смотрел и сыну (моему отцу) запрещал, говоря, что «там всё – враньё». А о себе отзывался, что врать не хочет, а правду сказать не может, потому что нет слов людских для описания того, что он видел и пережил,… и, дай Бог, не будет.
Но кое-что всё таки просочилось и дошло до меня. Это краткие военные эпизоды, записанные отцом. В целом, они очень трагичны и тяжелы. Но, три из них я всё таки приведу здесь. В честь памяти деда. Их можно озаглавить: «О дисциплине военного времени», «Глупая отвага», «О Сталине».
Я горжусь тем, что мой дед был активным участником Великой Отечественной войны и внёс достойный вклад в победу нашего народа.
Можно считать, что 9 мая 1945 года война не закончилась, а перешла в новую фазу. Продолжением войны явился неимоверный труд народа на восстановлении разрушенного хозяйства и в ходе рождения самой мощной тогда и передовой советской ядерно-космической индустрии. Всё это — при массовой нищете, сиротстве, инвалидности, женском одиночестве, при первоначальном разгуле дерзкой преступности. Люди умирали от ран и болезней, полученных во время войны, кончали жизнь самоубийством. Вплоть до начала 60х годов война продолжала кровавую жатву, свидетелем которой был мой отец.
Можно считать, что та война продолжается и поныне, потому что, невероятно, но факт — до сих пор останки м
Новосибирска, практически не покидая своего рабочего места, без сна и отдыха не днями, а неделями.
Так трудилась вся страна, но работа бабушки вызывает у меня особый интерес и уважение потому, что она все годы войны находилась в центре бездонного информационного водоворота: непрерывный поток правительственных телеграмм с пометкой «Молния», приём и передача сводок Совинформбюро, бесконечные срочные междугородние переговоры. На другом конце провода крики родных ей девчат-связисток, знакомых только по голосу, о том что их бомбят и они прерывают связь, слышны разрывы снарядов. Бабушка не видела фронт, но часто слышала его и, порой, переносить это было тяжелее, чем видеть воочию.
Новосибирск в то время принимал и разворачивал сотни эвакуированных частей, госпиталей, десятки крупных военных заводов, непрерывно комплектовал и отправлял на фронт боевые части, продовольствие, технику, вооружение и боеприпасы, превращаясь на глазах в мощный промышленный центр.
Страна очень нуждалась в бабушке и она выполнила свой долг с честью и до конца.
Мой дед – Илья Андреевич, 1925 г.р., русский, уроженец с. Мильтюши, Искитимского р-на, Новосибирской области. В 1942 году, приписав себе лишний год, сбежал на фронт. Всю войну прошёл в звании рядового и сержанта, в составе войсковой разведки. Победу встретил в г. Щецин (западная Польша). Боевые награды: два ордена «Красной звезды», восемь медалей, две из которых — «За отвагу». Медали «За отвагу» он называл самыми дорогими наградами, или солдатскими орденами.
О войне рассказывал очень скупо. Войну ненавидел. Фильмы о войне сам не смотрел и сыну (моему отцу) запрещал, говоря, что «там всё – враньё». А о себе отзывался, что врать не хочет, а правду сказать не может, потому что нет слов людских для описания того, что он видел и пережил,… и, дай Бог, не будет.
Но кое-что всё таки просочилось и дошло до меня. Это краткие военные эпизоды, записанные отцом. В целом, они очень трагичны и тяжелы. Но, три из них я всё таки приведу здесь. В честь памяти деда. Их можно озаглавить: «О дисциплине военного времени», «Глупая отвага», «О Сталине».
Я горжусь тем, что мой дед был активным участником Великой Отечественной войны и внёс достойный вклад в победу нашего народа.
Можно считать, что 9 мая 1945 года война не закончилась, а перешла в новую фазу. Продолжением войны явился неимоверный труд народа на восстановлении разрушенного хозяйства и в ходе рождения самой мощной тогда и передовой советской ядерно-космической индустрии. Всё это — при массовой нищете, сиротстве, инвалидности, женском одиночестве, при первоначальном разгуле дерзкой преступности. Люди умирали от ран и болезней, полученных во время войны, кончали жизнь самоубийством. Вплоть до начала 60х годов война продолжала кровавую жатву, свидетелем которой был мой отец.
Можно считать, что та война продолжается и поныне, потому что, невероятно, но факт — до сих пор останки многих солдат остаются не захороненными.
Для того чтобы не было войны, необходима живая память о ней, иначе всё повторится, и вид содеянного будет ещё ужасней.
Великая Отечественная война глазами участника через его дневник-воспоминание
- Авторы
- Руководители
- Файлы работы
- Наградные документы
Дабажапов Д.В. 1Бабуев Ж.М. 1
1МОУ «Южно-Аргалейская СОШ»
Жамсаранова Б.Б. 1
1МОУ «Южно-Аргалейская СОШ»
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
Введение
История страны складывается из судеб людей. В последнее время большое значение в исследовании фронтового быта советских солдат, боевых событий в годы Великой Отечественной войны, играют исторические источники личного характера, как дневники, мемуары, письма. Сегодня можно открыть любой учебник по истории, другую литературу, различные сайты в интернете и найти точные описания военных действий, узнать о судьбах отдельных солдат и военачальников. Сохранился достаточно большой массив разнообразных документов, содержащих информацию о войне.
Но если рассматривать дневники и мемуары в качестве источника в этом вопросе, можно сказать, что они являются очень ценным и важным материалом по истории Великой Отечественной войны. Они позволяют увидеть происходившее глазами людей, переживших такое великое и страшное событие. В то же время потенциал этого источника в воссоздании фронтовой действительности, измерение войны глазами участника через его личные записи до сих пор недостаточно использован исследователями. В этом мы видим актуальность и новизну своего исследования.
Очень ценным документом является сохранившийся рукописный дневник уроженца нашего села Батуева Базаргуро, который прошел от начала до конца всю Великую Отечественную войну, – уникальная тетрадь воспоминаний об этом тяжелом историческом времени.
Цель работы: исследовать исторический документ личного происхождения – дневник –воспоминание участника Великой Отечественной войны.
Задачи:
- Изучить основные виды источников личного происхождения для исследования фронтового быта солдат в Великую Отечественную войну;
- Познакомиться с дневником – как жанром мемуарной литературы, отражающим субъективно реальные эпизоды войны;
- Проанализировать воспоминания о фронтовых событиях по дневниковым записям участника войны;
Объект исследования: дневник – воспоминание участника войны
Предмет исследования: отражение фронтового быта солдата в дневниковых записях
Гипотеза: изучив личный дневник-воспоминание участника войны, мы получим возможность как бы непосредственного соприкосновения с суровым временем 1941-1945 годов и по-новому оценим фронтовой быт солдат; убедимся, что дневник является ценным, незаменимым источником в данном направлении.
Методы и приемы: теоретико-методологический и сопоставительно-сравнительный анализы, консультации, беседы.
Важным моментом в данном исследовании является то, что научный руководитель работы – дочь ветерана войны, автора дневника. Поэтому все, что описано в дневнике прочувствовано, прожито, пережито как бы совместно с автором, и живы в воспоминаниях рассказы отца о войне.
Для решения целей и задач исследовательской работы, для подтверждения своей гипотезы, на первом этапе своего исследования мы изучили научную литературу по жанрам мемуарной литературы, отражающих исторические моменты военного времени.
1.Варшавский, Д. И. Мемуары, дневники и письма как исторический источник в вопросе изучения фронтового быта советских солдат в Великой Отечественной войне.
- Тажидинова И. Г. Дневники Великой Отечественной войны1941 − 1945 гг. Статья посвящена научному анализу содержания дневников советских граждан, относящихся к периоду Великой Отечественной войны.
На втором этапе работы основным источником нашего исследования стал исторический документ личного происхождения – дневник-воспоминание ветерана войны нашего села Батуева Базаргуро, в 1940 году призванным на службу в армию, прошедшим всю войну, вернувшимся домой только в конце 1945 года. Познакомились с биографией ветерана, по дневниковым записям посмотрели на войну глазами молодого солдата, испытали невероятные чувства.
Анализируя воспоминания, мы выявили, что очень подробно, даже детально описываются первые бои на передовой, видимо, это связано с большим душевным потрясением, эмоциональным всплеском в начале войны. Большая часть воспоминаний связана с самыми тяжелыми 1942 — 1943 годами, когда приходилось обороняться, отступать, много боевых товарищей, с которыми начинали службу, полегли в Брянских лесах, под Калугой, под Москвой.
Упоминаются много имен и фамилий, что может являться ценным историческим источником для поколений.
Также мы убедились, что жизнь человека, во многом зависела от случайностей и наш герой в полной мере испытал это на себе, когда чудом избегал смерти.
В первую очередь, человек всегда думает об удовлетворении своих первостепенных естественных надобностей, таких как пища и сон, это отражается и его воспоминаниях.
Увидели глазами очевидца страшные картины после освобождения концлагеря Освенцим, разрушения городов и сел, недоброжелательного, даже враждебного отношения к советским солдатам жителей Западной Украины.
Но, несмотря на это, описывает красоту природы Польши, Украины, Германии, которую он видел уже в конце войны, несмотря на огромную разруху. По воспоминаниям мы поняли, что человек, пройдя через все ужасы войны, не ожесточился, сохранил в себе хорошие человеческие качества. Уже в зрелом возрасте, наш герой сочинял стихи о том времени, о своих земляках, не вернувшихся с войны, ведь на его руках умер друг-земляк из Цокто-Хангила.
Очень интересным было то, что из дневника мы узнали, что на таком большом пространстве войны могли быть встречи, пусть и минутные, со своими земляками – бурятами, даже из своего села.
Данное исследование позволило нам провести измерение войны глазами непосредственного участника и получить уникальную возможность изучения этого ценного исторического документа.
Практическая значимость данного исследования в том, что солдатов Великой Отечественной, очевидцев тех событий остается совсем мало, в нашем селе уже нет никого, поэтому данный исторический документ представляет ценность для ещё более детального изучения. В исследовательской работе мы не раскрыли, не проанализировали все записи, поэтому этот дневник, может быть, поможет взглянуть на те события по-иному.
Выводы: 1. Из источников личного происхождения воспоминания представляют наибольший интерес, что обусловлено полнотой и информативностью материала. Можно даже сказать, что они являются основными источниками в данном вопросе.
- . У автора наблюдается перекрещивание жанров дневника и воспоминаний, что является, по мнению исследователей, распространенным явлением.
- По спектру сюжетов, передающих настроения и жизненные ситуации человека в военное время, обилию подробностей и затрагиваемых тем, изученный дневник является ценным, практически незаменимым документом о войне.
Теоретическая часть
Глава 1. Основные виды источников личного происхождения для исследования фронтового быта солдат в Великую Отечественную войну.
- Мемуары и письма как источник фронтовой жизни солдат.
В отечественной исторической науке изучению Великой Отечественной войны всегда придавалось большое значение.
В рамках исследования фронтового быта, основными видами источников являются мате- риалы личного происхождения, а именно: мемуары, дневниковые записи и письма с фрон- та. Ниже приведем характеристику этих материалов и использование их в качестве источников по изучению фронтового быта солдат на войне:
- Мемуары.
Согласно Большой Советской Энциклопедии: «Мемуары (франц. mémoires, от лат. memoria – память), воспоминания о прошлом, написанные участниками или современниками каких-либо событий. Создаются на основе личного опыта их авторов, но осмысленного в соответствии с их индивидуальностью и общественно-политическими взглядами времени написания мемуаров» [4, с. 64-65].
То есть мемуары всегда пишутся по прошествии некоторого времени после описываемых событий, когда человек может подвести итоги, сделать соответствующие выводы и многое осмыслить. Однако написание воспоминаний преследует и другую цель — они носят еще и назидательный характер для потомков.
В любых воспоминаниях военных, принимавших участие в боевых действиях, встре- чается описание быта на фронте. Этот вопрос невозможно обойти стороной, когда человек начинает вспоминать свою жизнь на войне. Разумеется, имеются в виду воспоминания рядового и младшего офицерского состава, как непосредственных участников боевых действий на передовой. В первую очередь человек всегда думает об удовлетворении своих первостепенных естественных надобностей, таких, как пища и сон, это отражается и в его воспоминаниях: «Окоп выкопал, танком наехал, брезентом застелил и печурку к днищу подвесил, выведя трубу наружу, – вот и весь ночлег»… «Кормили раз в день – вечером привезут, и завтрак, и обед и ужин [1, с. 197].
Не обходят фронтовики стороной в своих воспоминаниях моменты отдыха и досуга, такие, как приезды в боевые части агитбригад и оркестров в периоды затишья: «Раз или два в месяц в части корпуса наезжал фронтовой ансамбль песни и пляски. Случалось, что из Москвы прикатывали артисты. Тогда наши артисты и гости из столицы давали по несколько концертов днем и вечером, чтобы как можно больше солдат и офицеров смогли приехать с передовой и посмотреть…» [2, с.187].
Но в мемуарах, как отмечают исследователи, есть и недостатки. Во-первых, отражается только личное восприятие событий, иногда даже сильно искажающее их. Во-вторых, воспоминания, как правило, пишутся на склоне лет, когда многие подробности и некоторые события уже забылись. Это становится причиной неточностей и огрехов в хронометраже описываемых дат.
Война наносит глубочайшую душевную травму любому ее участнику, и вспоминать некоторые эпизоды, связанные с переживаниями, весьма тяжело, а порой в принципе невозможно, так как мозг блокирует воспоминания, нанесшие психике наибольший вред. Поэтому человек старается всячески обойти такие моменты, а то и вовсе не помнит их или помнит фрагментами: «Бой в окружении – это не то, о чем хочется вспоминать» [4, с. 54]. И еще: «…Дальнейшие события мелькали как кадры кинопленки. Только часто хотелось зажмурить глаза…» [4, с. 80]. Также причиной недомолвок и пробелов в воспоминаниях участников боевых действий может являться осознанное замалчивание некоторых эпизодов и событий, участниками которых им довелось побывать.
- Фронтовые письма.
Еще одним важным эпистолярным источником являются письма солдат-фронтовиков, адресованные родным и близким. В этих письмах они делятся событиями и переживаниями, волнующими их в данный момент, рассказывают о своей жизни и достижениях на фронтах.
Писали в основном, химическим карандашом, который не стирается и эти письма дошли до наших дней. У нашего ветерана также есть три письма, отправленных им домой. Письма из дома имели огромное значение для поддержания боевого духа солдат. Они являли собой единственную связующую нить с родными и близкими бойцам людьми. При работе с письмами необходимо учитывать некоторые особенности этого своеобразного вида источников.
Основным недостатком фронтовых писем как исторического источника является их сжатость, вызванная зачастую недостатком бумаги или свободного времени. Не стоит сбрасывать со счетов и такой немаловажный фактор, как действие военной цензуры. Проверке подвергались абсолютно все письма, идущие с фронта. Эти действия были направлены на недопущение утечки секретной информации и проникновения нежелательных настроений из фронта в тыл. [1., с. 4]. Тем не менее из солдатских писем можно извлечь информацию по интересующим исследователя вопросам, касательно эпизодов фронтового быта. Вот как отзывается о своем обмундировании рядовой С.И. Бобров в письме родственникам 7 декабря 1941 г.: «Нас еще не обмундировали, только дали мне ботинки да обмотки, так как сапоги изорвал вдрызг. Ну, а каково ходить и заниматься на улице при таком морозе в ботинках, когда нет шерстяных носок?» [3, с. 47]. Такое положение оспаривает письмо политрука Н.С. Клочкова своим родным от января 1942 г.: «Одет я тепло: хорошая шуба, шинель, ватные куртка и брюки, новые валенки и теплые рукавицы. Морозы у нас стоят крепкие – 35-38 градусов, но они нам нипочем» [3, с. 55].
Если сравнивать письма с воспоминаниями в качестве источника по истории по- вседневности, то у первых есть значительное преимущество в точности датировки описы- ваемых событий, зато воспоминания предоставляют более подробную информацию
- Дневники как жанр мемуарной литературы.
Совершенно особое место в ряду этих документов личного происхождения занимает такой жанр мемуарной литературы, как дневники.
«Дневник – жанр мемуарной литературы, для которого характерна форма повествования от первого лица, ведущегося в виде повседневных, обычно датированных, синхронных с точки зрения системы отражения действительности, записей. Последние два десятилетия характеризуются необычайно возросшим интересом к исследованию «автодокументальных» текстов вообще и дневников в частности. Появилось даже слово «дневниковедение», означающее область филологии, отдельную от изучения близких жанров: автобиографий, мемуаров и писем. Дневник отличает предельная искренность и доверительность.» [1, с.12 ].
А дневники Великой Отечественной войны являются «живыми» свидетелями тех страшных лет нашего народа. Они дают возможность соприкоснуться с суровым военным временем 1941-1945 годов и по-новому оценить глубину и величие солдатского и гражданского подвига нашего народа.
Дневники как исторический источник весьма схожи с мемуарами, ряд исследователей даже ставят между ними знак равенства. Однако между ними есть существенные отличия.
«Дневник – это подневные записи одного лица или коллектива, ведущиеся синхронно событиям их жизни. Внешняя, но более других обязательная примета дневников — обозначение дат. Реальные дневники могут рассматриваться как род исторических, историко-биографических или историко-культурных документов» [7, с. 360]. То есть дневник ведется во время событий, благодаря чему является более точным источником, чем воспоминания. Особую ценность представляют дневниковые записи, изданные практически без редактуры и правки – они позволяют проследить виденье событий автором на момент их происшествия, а не через определенное количество лет. Однако дневники имеют и некоторые недостатки, в частности краткость изложения. Это вызвано многими факторами, такими, как недостаток времени, а порой и нехватка письменных принадлежностей.
Вывод: 1) Из источников личного происхождения воспоминания представляют наибольший интерес, что обусловлено полнотой и информативностью материала. Можно даже сказать, что они являются основными источниками в данном вопросе. Много внимания в мемуарах уделяется именно быту и укладу жизни на фронте. Тем более, что пишутся они по прошествии определенного количества времени и в спокойной обстановке.
2) Дневники менее информативны, зато точнее в датировке, чем воспоминания; однако встречаются намного реже их.
3) Письма содержат меньше всего информации, так как они писались кратко и не всегда описывали события. Также была строгая цензура писем.
Глава 2. Война глазами участника Великой Отечественной — Батуева Базаргуро через его воспоминания в личном дневнике.
- Страницы биографии Батуева Базаргуро – ветерана, прошедшего всю войну.
Жизнь и судьба солдата, ветерана Великой Отечественной войны Базаргуро Батуева очень интересна. Он родился в феврале 1918 года в улусе Ара-Бутуу в местности Залбагтай в семье Абидуева Бато и Цыденовой Жаб. Он был единственным и долгожданным ребёнком. Свои детские годы вспоминал как самые радостные и счастливые. Как только наступало лето, он и его друзья из улуса Бальчинов Жалсан, его брат Буршуунай и другие ребята, пасли овец.
В 1930 году был основан колхоз им. Калинина и семья Абидуева Бато (отец) вступила в колхоз. Ровесники начали учиться в Хойто –Агинской начальной школе, а Базаргуро мать не захотела отдавать, так как в самом раннем детстве он много болел и, конечно, она очень переживала за него. Осенью 1932 года, работая в зерноуборочной бригаде, твёрдо решил, что обязательно будет учиться в школе и сказал об этом своим родителям. В октябре 1932 года стал учеником 2 класса , одноклассники были на несколько лет младше, а ему было уже тринадцать лет. Его посадили за последнюю парту, ведь он был на голову выше всех, некоторые даже смеялись над ним. По воспоминаниям ветерана, они жили в интернате, спали на деревянных кроватях, в день давали один раз суп, один-два раза аарса, чай и хлеб по норме. Но несмотря на это, все были очень дружными и весёлыми. Дальше учился в Агинской школе до 8 класса. Проболев очень сильно один год, в 1939 году поступил в Агинское педагогическое училище на годичные курсы. Он был от природы очень грамотным человеком и в школьные годы всегда был в числе лучших учеников.
В октябре 1940 года призван на службу в Красную Армию на Дальний Восток в кавалерийский полк. Он хорошо помнит, как мать долго стояла на дороге и смотрела ему вслед. И этот образ матери всегда оберегал его в самые трудные и тяжёлые минуты. С Аргалея уходили служить вместе четверо парней: Бадмаев Цынге, Жаргалов Батомунко, Тыкеев Цырендоржо и Батуев Базаргуро. Они все потом погибли на войне, кроме него. Позже Базаргуро напишет стихотворение «Аргалиин дурбэн хʏбʏʏд».
В морозном декабре 1941 года, когда враг неумолимо приближался к Москве, их 115-ый кавалерийский полк был переброшен с Дальнего Востока сразу на Западный фронт. Проезжая в вагоне мимо родных мест, конечно, он очень хотел повидаться с родными, увидеть хоть на минуту отца и мать. Но служба есть служба, война есть война.
Базаргуро родился, как говорят в народе, под счастливой звездой, ибо из самых опасных ситуаций он всегда чудом выходил живым, всем смертям назло. Во фронтовой биографии Базаргуро Батуева было много запоминающихся случаев. Буквально на его руках погиб в бою его одноклассник Осор Мижидэ из Цокто-Хангила. Он только и успел попросить после войны поехать к его матери и рассказать о его гибели, что он с честью выполнил свой долг. И он выполнил завещание своего друга земляка. Также память хранит не вернувшихся домой других земляков-однополчан, погибших на поле боя – рядового Ивана Орищенко из рудника Спокойный (ныне Орловск), командира отделения Аюшу Нимаева из села Кункур.
Фронтовые дороги проходили через города и сёла Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областей, форсировал Днепр. Пешком прошёл по совершенно разрушенному фашистами Крещатику, столице Украины. Потом в боях освобождал города и деревни Житомирской, Тернопольской и Львовской областей. Дальше на Запад фронтовая дорога пролегла через земли Польши, Чехословакии. На Чехословацкой земле вблиз города Муравско-Острава встретил победу и где приняли его кандидатом в члены КПСС.
Сразу же после войны начал работать в родном колхозе на разных работах. В 1955 году окончил Читинскую среднюю сельскохозяйственную школу, где получив квалификацию агронома, и работал много лет бригадиром, агрономом, зоотехником, был участником ВДНХ СССР. Последние пять лет, до выхода на пенсию, работал скотником-пастухом. Уже на заслуженном отдыхе по мере сил и возможностей помогал родному колхозу.
Вместе с супругой Цыдыповой Цынгэ, матерью-героиней, они вырастили и воспитали хорошими людьми десять своих детей. Всем дали высшее образование, среди них есть инженеры, учителя, врач, предприниматели. Основой того, что дети выросли честными и трудолюбивыми, умными и добрыми, является родительское воспитание. Сейчас продолжают род деда 22 внуков, 17 правнуков, двое пра-правнуков- целое богатство.
Ещё одной из сторон многогранной личности Батуева Базаргуро является то, что он составлял родословную своей семьи, своего рода по материнской и отцовской линиям (Угай бэшэг).
Также в его дневнике есть исторические данные о семидесяти двух семьях, проживающих в местности Зун Аргалей до 1930 года и составлена небольшая карта расположения семей. Как творческий человек, он является автором многих стихов: «Солдат ябааб», «Тоонтомни», «Аргалиин дурбэн хубууд», «Хоюулан» и других. Некоторые его стихи печатались в газетах «Агинская правда» и «Толон».
2.2.Анализ содержания дневника – воспоминаний как исторического документа личного характера
Базаргуро Батуев был очень творческим человеком, вёл дневник — воспоминания на бурятском языке, в котором описана вся его жизнь: родословная семьи и семьи жены, детские годы, военные годы и знаменательные события в жизни своей семьи. Большую часть страниц дневника составляют воспоминания о своей недолгой службе в армии и о Великой Отечественной войне, ведь он прошёл всю войну с 1941 по 1945 годы.
Анализируя в целом страницы воспоминаний о войне, можно подчеркнуть значение дневника как средства совладения с жизненными трудностями в экстремальной ситуации в военное время. У автора наблюдается перекрещивание жанров дневника и воспоминаний, что является, по мнению исследователей, распространенным явлением. Батуев Базаргуро уже в послевоенные годы производил обработку воспоминаний, разрозненных обрывков записей.
Основным лейтмотивом данного источника является как бы суммирование «опыта жизни», который прирастал после призыва в Красную Армию.
10 октября 1940 года с тремя своими друзьями –аргалейцами он был призван на службу в армию, служил на Дальнем Востоке в кавалерийском полку. Начало военной службы он описывает очень подробно, эти воспоминания отложились чётко в памяти, что связано с резкими изменениями в укладе жизни, с совершенно новыми условиями быта. В дневнике мы встретили описание не только обмундирования и снаряжения, выдаваемого солдатам, но и отзывы о нем: достоинства и недостатки, удобство, функциональность, чего не встретишь в каталогах и энциклопедиях: « …после карантина нам выдали кавалерийскую форму – длинную шинель с желтыми пуговицами, сзади разрез для удобства, будёновку, кожаные сапоги со шпорами, зеленую диагональную рубаху, синие галифе с диагональю , новое нательное бельё. И когда мы оделись, мне показалось, что все стали какие-то красивые, неузнаваемые». Также подробно характеризует кавалерийское и боевое снаряжение, своего коня, с которым прошел потом начало войны. Написаны все имена, фамилии командиров, начиная с командира отделения, заканчивая командиром дивизии, генерал-майором Манагаровым – впоследствии во время войны, командовавшим армией. Ветеран вспоминает, что первый год службы был очень трудным, режим жёстким, целый день шло обучение навыкам бойца-кавалериста. Никаких увольнений, отпусков, не водили в кинотеатр, даже запрещалось фотографироваться, но питание было хорошим. « Мы учились всему
быстро. Так через 6-7 месяцев, привыкнув к солдатскому режиму, я стал полноправным кавалеристом».
Известие о начале войны Батуев Базаргуро встретил 22 июня 1941 года вечером, когда он стоял на посту дневальным у конюшен – « … увидел быстрым шагом, почти бегом приближающегося старшину эскадрона Кнышева, я как-то почувствовав что-то тревожное, сразу подтянулся и хотел доложить, но он сказал, что началась война. На душе стало сразу тяжело. Через какое-то время, почти уже в темноте полковой горнист сыграл сигнал о тревоге. В полном боевом снаряжении, оседлав лошадей, весь наш 115-й кавалерийский полк поэскадронно был собран на большой открытой местности, где нам объявили о начале войны и зачитали боевой приказ. В эту же ночь весь полк стоял в обороне на японско-китайской границе. В течение нескольких дней рыли окопы, траншеи, укрепления для ДЗОТов, временные склады, конюшни и многое другое. Здесь мы пробыли до конца ноября 1941 года ». Передавая потрясение, ошеломление страшным известием, дневниковые записи, в то же время демонстрируют большую собранность, ответственность и сплоченность советских солдат перед лицом грядущих испытаний.
В начале декабря 1941 года, их полк внезапно ночью погрузив в вагоны, отправили на запад, только к концу декабря они оказались под Москвой. Боевое крещение получил, вытесняя немцев из города Калуги. Потом были бои в брянских лесах, где в июне-июле-августе 1942 года держали оборону, то переходя в наступление, то попадая в окружение.
В этот тяжелый период войны, иногда было даже непонятно, где наши части, где немецкие, можно было заблудиться в направлении и попасть в плен. « В эту ночь мы блуждали по лесу, не понимая, где наша оборона, где немецкая. Вдруг взлетела ракета, началась тут и там автоматная перестрелка, взрывы снарядов, льёт дождь. Мы с Мижитовым Осор из Цокто-Хангила, попали в воронку, наполовину, заполненную водой и пролежали там, пока не погасли ракеты. Своих нашли только на рассвете. Многие наши тогда погибли, были ранены, были и потерявшиеся».
«Война это — не только подвиги и героические сражения, но это ещё и странная нелепость. И поступки и судьбы человеческие в ней часто зависели от случайностей, которые и теперь не так-то просто объяснить» — пишет в своем дневнике солдат.
В дневнике описано несколько случаев, когда он буквально чудом избегал смерти. ((Приложение 3). Как верующий человек, он говорил о том, что может ещё молитвы матери спасали его.
В первую очередь, человек всегда думает об удовлетворении своих первостепенных естественных надобностей, таких как пища и сон, это отражается и его воспоминаниях.
« Я и ещё двое солдат, отбившись ночью от своих на берегу реки Жиздры, спрятавшись под большим дубом, проспали всю ночь. Мы не спали уже несколько суток. Вокруг рвались бомбы, но мы, завернувшись в мокрые шинели с головой, уснули».
Тяжелые чувства вызывают воспоминания о страшном ранении и многих месяцах лечения, после которых наш солдат остался без нескольких пальцев на руке, с осколком в ноге, почти без ягодиц. Некоторое время служил в нестроевой части вербовщиком гражданского населения по строительству и ремонту временных аэродромов для легких истребителей, особенно опасно было на территории Западной Украины, не хуже, чем на передовой. ( Приложение 4) .
Глазами очевидца мы увидели концлагерь Освенцим после его освобождения, где как вспоминает ветеран, он плакал, глядя на зверства фашистов (Приложение 5).
Победу Батуев Базаргуро встретил на территории Чехословакии: « среди всеобщего ликования, я с горечью вспомнил своих земляков, однополчан, которые навсегда остались лежать в землях под Калугой, Москвой, Брянских лесах, на Украине, Польше, в Германии, Чехословакии. Я вспомнил родной Аргалей, лица земляков, своих дорогих родителей, на душе у меня стало очень тепло…»
Вывод: 1. Анализируя воспоминания, мы выявили, что очень подробно, даже детально описываются первые бои на передовой, видимо, это связано с большим душевным потрясением, эмоциональным всплеском в первые годы войны.
- Упоминаются много имен и фамилий, что может являться ценным историческим источником для будущих поколений.
- Идет подробное описание самого тяжелого периода войны 1942-1943 годов, где было очень много для него потерь друзей, однополчан, земляков, пришлось испытать лишения, серьёзные ранения.
- На войне жизнь солдата зависела от действия командиров и от случайностей, которых было немало во фронтовой биографии нашего героя, также в первую очередь, человек всегда думает об удовлетворении своих первостепенных естественных надобностей, таких как пища и сон, это отражается и его воспоминаниях.
- Увидели глазами очевидца страшные картины после освобождения концлагеря Освенцим, разрушения городов и сел, недоброжелательного, даже враждебного отношения к советским солдатам жителей Западной Украины.
- Но несмотря на это, описывает красоту природы Польши, Украины, Германии, которую он видел уже в конце войны, несмотря на огромную разруху. По воспоминаниям мы поняли, что человек, пройдя через все ужасы войны, не ожесточился, сохранил в себе хорошие человеческие качества.
Заключение
Ведение дневников участниками Великой Отечественной войны, очевидно, являлось одним из средств совладания с теми жизненными трудностями, которые несла с собой эта война. По спектру сюжетов, передающих настроения и жизненные ситуации человека военного времени, обилию подробностей и затрагиваемых тем, дневники являются ценным, практически незаменимым источником. В то же время потенциал этого источника в воссоздании фронтовой и тыловой повседневности до сих пор недостаточно использован исследователями.
Отличаясь по своему функциональному назначению от всех других источников личного происхождения, дневники–воспоминания обладают многообразным, уникальным потенциалом.
Дневник –воспоминание нашего ветерана войны Батуева Базаргуро является историческим документом, представляющим ценность для последующего исследования. Как правило, дневниковые записи обычно велись в достаточной мере образованными, чуткими к собственным переживаниям и общественным настроениям людьми, каким был и наш герой. Очень тонко описывая события тех страшных лет, свои переживания он сумел донести, прежде всего для своих детей, величие подвига всех солдат Великой Отечественной.
Литература
- Варшавский, Д. И. Мемуары, дневники и письма как исторический источник в вопросе изучения фронтового быта советских солдат в Великой Отечественной войне / Д. И. Варшавский // Вестник Московского государственного областного университета. – 2012. – № 4. – С. 18 – 22.
- Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М. 1999 – 383 с.
- Тажидинова, И. Г. Фронтовой дневник писателя С. А. Баруздина из собрания РГАЛИ (1944–1945 гг.) / И. Г. Тажидинова // Отечественные архивы. – 2015. – № 1. – С. 71 – 79.
- Большая Советская Энциклопедия. Т.8. – М: Советская Энциклопедия, 1972 -591 с.
- Большая Советская Энциклопедия. Т. 16 – М: Советская энциклопедия, 1974 – 615 с.
Источники
- Драбкин А. Я дрался на Т-34. – М.: Эксмо. Яуза,2005. – 346 с.
- Лоза Д.Ф. Танкист на «иномарке». Победили Германию, разбили Японию. – М.: Яуза. Эксмо,2005. – 317 с.
- «Нам выпало на долю». Документальные публи- кации фронтовых писем последних лет: сбор- ник документов и материалов. – Тверь: Лилия Принт, 2005. – 304 с.
- Першанин В.Н. «Смертное поле». «Окопная правда» Великой отечественной. – М.: Яуза. Эксмо, 2008. – 317 с.
- Письма Великой Отечественной / под ред. В.Л.Дъячкова. – Тамбов, 2005. – 632 с.
Приложение 1.
1941 год.
Приложение 2.
Письма с фронта
Приложение 3
Страницы дневника на бурятском языке
Приложение 4
Приложение5
Просмотров работы: 5140
Ленинград, 20 октября 1941 г. Суббота. Лежа на койке в постели в 6 часов утра мы услышали отчаянный раздирающий вопль. Это в истерике плакала тетя Шура Фролова, она живет через комнату от нас, у нее утром вытащили все продовольственные карточки, а у ней 3 или 4 детей, бабушка, муж и сама. Один грудной, и теперь остались все и безо всего, не выкуплено было за 2 декады. Они и без того уже были опухшие все и теперь вообще не знают, что будут делать. Карточки – сейчас все. Хотя на них ничего не достать, ибо в магазинах ничего нет. Но все-таки хоть 125 г хлеба да и то каждый день. Ночью спится плохо, то и дело просыпаешься и ждешь утра, хоть выкупить хлеб, да закусить скорей. За хлебом сегодня ходила Таня Д., а мы с Таней разогрели на примусе щи, а Тане Д. кофэ, и утром поели, я столько поела соли с этими 125 г хлеба, что в тех-ме под краном надулась холодной воды, хотя знаю, что сейчас это самое вредное. Техникум сейчас не отопляется, руки не чувствуют, но я сижу и карябаю в дневник. (…)
25 октября 1941 г. Спать легли поздно, слушали последние известия и заснули только после того как передали интернационал. Вечером к Таниной подруге, Тосе, пришел Ю. П. Тося принесла сахару, я разожгла примус на кухне, скипятила чаю, и мы пропили до позднего. Утром Таня встала рано в 5 часов и пошла с соседкой в очередь за свининой, мясо на эту декаду по 250 грамм, с какими-то силами она достала 500 г свинины и ушла на работу. Я встала в 7 часов, прослушала последние известия и пошла в техникум. Пришла в 8.40 и поднялась на 2-й этаж, у нас в 7-й аудитории занятия по гидравлике, девочки сидят и ждут преподавателя Бельдюга. Я подошла к ним и поздоровалась, сердце у меня стукнуло, я не знала отчего; вдруг Ида Подосенова говорит мне: «Танцуй». (Это слово мы говорим, когда получаем письмо.) Я растерянно ответила: «Мне? Письмо? От отца?» (Всем знаком почерк моего милого папы.) Ида сказала: «Да, от отца, получай», – и подала мне письмо, я взяла письмо как драгоценную золотую вещь и не сразу ее стала распечатывать. Потом я пошла в кабинет геодезии и прочла долгожданные строки. Меня зовут ехать домой, я обрадовалась, но на сердце что-то стало обидное. Приглашают, когда отсюда выехать никакими путями невозможно, ведь Ленинград сейчас окружен так, что даже обречен на ужаснейший голод. А поэтому я не надеюсь увидеться с родными, ибо если сбережешься от бомбежки, наверно, умрешь от голода. Занятия кончились в 15 часов, мы с Валей Кашиной пошли на ул. Декабристов к Вере Федоровой, дома ее не застали и вернулись обратно. На остановке 15 трамвая мы с Валей простились, и я поспешила на Бульвар Профсоюзов к Тане; не успела я отойти от Театральной площади, как раздался оглушительный свист и вскоре после свиста разрыв снаряда, снаряд упал на площадь против Ленинградской консерватории. Вскоре упал второй снаряд, народ попрятался в парадные, я кое-как добежала до Тани, открыла дверь и села читать «Дым» Тургенева, окна дрожат от разрыва снарядов. Вскоре пришла Таня, я начала разжигать примус, греть кипяток. Таня пошла в магазин, выкупила хлеба. 25 октября поели с кокосовым маслом, попили чай, долго спорили о настоящем положении нашего города и, прослушав последние известия в 9.30, заснули беспокойным, нервическим сном.
26 октября. Воскресенье, занятий в техникуме нет, но сегодня дежурю полные сутки в пожарном звене. Домой сегодня написала письмо, послала заказным письмом. Уроки не учила, все то вязала, то штопала, то на картах гадала девочкам, все мечтали как бы домой уехать да покушать хорошенько, хлебца досыта поесть. Говорили о прошлом, о хороших кушаньях, спорили о политике, горевали о своем положении, из которого, видно, нам не выбраться. Давали нам сегодня суп с морковкой и картошкой, да уж очень пересолен.
27 октября 1941 г. Настроение паршивое, очень расстроилась о доме, очень обидно, что я на веки оторвалась от родных. Немец всеми силами старается захватить наш город, сейчас он не наступает, засел у ворот Ленинграда, окопался и ни взад, ни вперед, измором что ли хочет взять. Воздушные налеты немного прекратились, тревог не было уже дней 5. Спала сегодня неспокойно, все думала о доме, т. к. Тамара Яковлева вчера вечером сказала мне, что когда она сидела на дежурстве, то слышала разговор проходящих военных о том, что скоро будут эвакуировать старух и детей. Я взбесилась от радости, но это было лишь до утра. Проснулась я рано и услышала, что сдали г. Сталина, все сдают, Ленинград все окружают, скоро и его возьмут. И осталась я качаться здесь, как в поле былинка, не к кому голову свою приклонить, спасибо хоть Таня здесь, с ней-то все веселее. Она иногда меня до того разговорит, что я начинаю верить в то, что я когда-то буду дома, увижусь с родными и даже «надоест». Нет, это только утешенье с ее стороны, немец не будет ждать, пока мы выйдем отсюда, а займет и начнет свои грабежи, разорения, истязания невинных народов, как это уже и есть в захваченных районах Ленинградской области. Сегодня выпало много снега, хотя бы скорей начались морозы, может быть, хотя бы немножко повлияло это на немца, открылся хотя бы какой-нибудь путь, выехать отсюда домой. Дома и умирать милей, но это уже осталось теперь мечтой навечно.
Сейчас урок теоретической механики, меня вызвал Григорий Иванович решать задачу, но у меня мысли совсем и не думают о задачах, я чуть не заплакала у доски, вспомнив, что не увижусь больше с домом. Очень часто мне вспоминается Нюра Шарыченкова, наверно, она там вспоминает обо мне, хочется увидеть ее и поговорить сердечно. Больше всего хочется поесть блинов, да хлебца домашнего.
3 ноября 1941 г. Каждую ночь вижу во сне бабку, она, наверно, думает там обо мне. Все ночи слышится беспрерывная артиллерийская канонада. Город – фронт, в данный момент мы не думаем о жизни, на каждом шагу – смерть. Снаряды летят, на ходу убивает народ. Днем сегодня было 2 тревоги. Думаю поступить в Р. У. Таня советует пойти в Р. У., но девочки говорят, что очень страшно там около заводов. Положение ужасное, подходят праздничные дни, но их праздновать нам, ленинградцам, не придется. Адольф Гитлер – этот гадина, кажется, угостит нас на праздник как следует своими «своеобразными подарочками». Карточки Тани не сменили. Сегодня у нас был зачет по стройматериалам, мне поставили 3-. Теоретическая механика прошла благополучно, по электротехнике не спросили, в буфете удалось покушать, тарелку борща, 25 гр. макарон, хлеб на завтра выкупила. Вечером с Таней пили чай с конфетами, хлеб сейчас ничем не заменим – ни шоколадом, ни золотом, хлеб пекут очень плохой, но едим его как нечто … (?), стараясь не проронить ни одной крошки этого «навозного кома». Эх, если бы сейчас попасть в деревню, да поесть бы вдоволь хлебушка с похлебкой, с тыквой, свеклой, картошкой, о которой теперь остались лишь воспоминания и мечты, наверно, никогда не сбываемые. Хочется, хочется пожить эти годы дома, но нет, видно, придется погибнуть под развалинами Ленинграда, не увидевшись с родными. Смерть видна на каждом шагу, каждую минуту. Боже милостивый, скоро ли будет конец? Конец, наверно, будет тогда, когда нам всем конец придет. Жаль все-таки, что не увижу теперь никогда своих родных и свою деревню.
12 ноября 1941 г. Господи! Наступил настоящий голод, народ начал пухнуть. Смерть! Голодная смерть – вот что ждет нас, ленинградцев, в эти ближайшие дни. Сегодня хлеб на завтра не дают, наверно, уменьшат норму, a на сегодня у всех было взято вчера. Итак, сегодня все рабочие и почти каждый без куска хлеба, на несчастные последние талоны крупы возьмет тарелку овощного супа и съест его без хлеба, а потом пойдет работать почти круглые сутки, да вот работай с водички этой горячей. А завтра, наверно, дадут по 100 грамм на день. Эх! Жизнь, жизнь, неужели теперь наши там не предчувствуют, что я здесь умираю голодной смертью, мучаясь в одиночестве, которой, видно, мне не пережить.
Вода, так же как еда и тепло, для блокадного города была роскошью. За ней ослабленные голодом люди отправлялись к водопроводным люкам или к Неве.
13 ноября. В ночь с 12 на 13 ноября была сильная бомбежка, одна бомба попала прямо в почтамт, в пожар произошло большое разрушение, на утро около почтамта сделали ограду и никого не пускали. На улицу Декабриста Якубовича бомба упала в ясли, весь дом обрушился, смотреть жутко. Во время тревог мы не вставали и живы только случайностью. Утром проснулись в 7.45, слушали последние известия, по радио вчера передавали статью о том, что Ленинград окружен кольцом железной блокады, что немец хотел взять Ленинград штурмом, чего у него не вышло. Теперь же он хочет взять Ленинград измором, поэтому-то нам сейчас придется пережить не только беспощадную бомбежку, артиллерийский обстрел, но и голодную смерть, настает момент, когда от нее нет никакого спасения. Ходим все как голодные волки, во все сутки едим только тарелку супа и 150 грамм хлеба. Рабочие получают 300 грамм хлеба, а служ. 150 грамм. Слабость чувствуется ужасная, сильное головокружение, на уроке сидим как глупые, путаемся во всех мелочах, да кроме того, кроме голода трагично и нервично переносим внезапный обстрел тяжелой артиллерии. Смерть на каждом шагу. Господи! Наверно, никогда это не кончится. Я все мечтаю о будущей жизни в деревне, всю ночь проводишь дома в деревне с родителями, ешь картошку, похлебку, но просыпаешься – живот пустой и в груди щемит от голода. Голова плохо работает, если и переживем эту войну, то все равно останемся или калеками или глупыми помешанными дураками. Нет! Пережить, наверно, не придется, сдадут, наверно, город, а жизнь от немца ждать нельзя. Прощай, родная сторонка, родная деревушка, прощайте, милые родители, бабка, сестренка, подруги моего счастливого детства, все прощайте, я, наверно, умру с голода или попаду под бомбежку или обстрел.
22 ноября 1941 г. Суббота. Ровно 5 месяцев войны с немецкими захватчиками. Ленинград на волоске от гибели. Вот-вот и осуществится план Гитлера: взятие Ленинграда измором. Норма в армии уменьшена, с 600 г красноармейцы стали получать 300 г на день, а с 300 г не очень-то развоюешься. Ой! Не могу подумать, как не хочется попадаться в руки немцу, ведь к нему не на жизнь, а на смерть. Вскоре судьба наша должна решиться. Хорошего не жду, теперь я совсем отчаялась, что когда-нибудь откроются дороги: из газет и из рассказов раненых, лежащих в госпиталях, нам известны все невозможно осуществимые трудности в боях за дорогу. Вряд ли удастся нашим бойцам прорвать кольцо блокады, видно, возьмет нас измором. Производительность труда уже снижается на всех предприятиях, а победу за дорогу еще не видно. О доме уже не думаю, все равно бесполезно, только себя расстраиваю. Да! За все свои капризы я достойно наказана богом. (…)
28 ноября 1941 г. Пятница. Л. С. Т. Занятия сегодня у девочек всего 2 курса, я встала утром, сходила на почтамтскую, купила хлеб, Татьянки ушли на работу, я поела кофэ, вынула свою повидлу и съела все. (…) Убралась в комнате. У Тани нашла письма мои, которые я написала домой и мамаше, но они уже распечатаны и прочитаны ей. Ах, как мне стало обидно за контроль, чего ей надо контролировать меня, шпион что ли ей я. В 10.30 пошла в тех-м, в библиотеке сменила книгу, взяла «Обрыв» ч. 1 Гончарова, говорят, хорошая вещь, почитаю. Занятия прошли, по контрольной математике не сделала одну задачу, тревога опять началась, беда, и до 5 вечера, вот уже недели 2,5 летает и бомбит в одно и то же время. Бомбы летели рядом, но мы сидели на лекции и строчили конспект.
22 декабря 1941 г. Понедельник. Вчера был выходной день. Мы с Таней выкупили конфеты «Аккра» кофейные 600 грамм, все на мою и ее карточки на 3-ю декаду. Это прямо счастье, а то в магазине, где я прикреплена, ничего не дают. Бывает повидла, и то и очередь за ней, а не выгодно, а это я все 3 декады выкупала в магазине, где прикреплена Таня. В столовую не попасть, наш буфет выходной, мы с Таней утром съели хлеб по 125 г с супчиком, в обед я еще выкупила 125 г, а вечером съели с Таней по 6 конфет и выпили по стакану кофэ.
Осень 1943 г.
(…) Из гетто тянется нескончаемый поток. Надоедливый дождь не прекращается ни на минуту. Мы уже совсем промокли. Течет с волос, с носа, с рукавов. Мама велит детям выше поднять ноги, чтобы не промокли. Рядом с нами другая мать устраивает для своих детей тент: воткнула в землю несколько веток и накрыла пальто. Как странно в такое время бояться насморка…
Мама плачет. Упрашиваю, хотя бы ради детей, успокоиться. Но она не может. Только взглянет на нас и еще горше плачет.
А люди все идут и идут… В гетто мы думали, что нас меньше. Скоро стемнеет. В овраге уже стало тесно. Одни сидят на месте, другие почему-то ходят, бродят, перешагивая через людей и узлы. Очевидно, потеряли своих.
Но ведь и те, ранее расстрелянные, тоже не хотели…
Стемнело. Все еще идет дождь. Охранники время от времени освещают нас ракетами. Стерегут, чтобы мы не убежали. А как убежать, если их так много?
Рувик вздрагивает во сне. Он задремал, уткнувшись в мое плечо. Его теплое дыхание щекочет мне шею. Последний сон. И я ничего не могу сделать, чтобы это теплое, дышащее тельце завтра не лежало бы в тесной и скользкой от крови яме. На него навалятся другие. Может, это даже буду я сама…
Опять выпустили ракету. Она разбудила Рувика. Широко раскрыв глазки, он испуганно огляделся. Глубоко, совсем не по-детски, вздохнул.
Раечка не спит. Она уже совсем замучила маму вопросами: погонят ли в Понары? А как — пешком или повезут на машинах? Может, все-таки повезут в лагерь? Куда мама хотела бы лучше — в Шяуляй или в Эстонию? А когда расстреливают — больно? Мама что-то отвечает сквозь слезы. Раечка гладит ее, успокаивает и, подумав, снова о чем-то спрашивает. (…)
Охранники велят нам вставать и подниматься наверх, во двор. Вещи промокли, облеплены грязью. Но они и не нужны. Чемоданчик я все-таки взяла, а узел так и оставила торчащим в грязи. Во дворе толкотня. Еле-еле продвигаемся к противоположным воротам. Чем ближе к ним, тем больше давка. Неужели не выпускают? Из оврага приходят все новые и новые. Разве задержишь такую массу? Нас уже совсем сдавили. (…)
Оказывается, ворота закрыты. Пропускают только через калитку. Приближаемся и мы. Выпускают по одному. Мама беспокоится, чтобы мы не потерялись, и велит мне идти первой. За мной пойдет Рувик, за ним Раечка, а последней — мама. Так она будет видеть всех нас.
Выхожу. Солдат хватает меня и толкает в сторону. Машин там не видно. Поворачиваюсь сказать об этом маме, но ее нет. Поперек улицы — цепочка солдат. За нею — еще одна, а дальше большая толпа. И мама там. Подбегаю к солдату и прошу пустить меня туда. Объясняю, что произошло недоразумение, меня разлучили с мамой. Вон она там стоит. Там моя мама, я хочу быть с нею. Говорю, прошу, а солдат меня даже не слушает. Смотрит на выходящих из калитки женщин и время от времени толкает то одну, то другую в нашу сторону. Остальных гонит туда, к толпе.
Вдруг я услышала мамин голос. Она кричит, чтобы я не шла к ней! И солдата просит меня не пускать, потому что я еще молодая и умею хорошо работать…
Еще боясь понять правду, я кричу изо всех сил: «Тогда вы идите ко мне! Иди сюда, мама!» Но она мотает головой и странно охрипшим голосом кричит: «Живи, мое дитя! Хоть ты одна живи! Отомсти за детей!» Она нагибается к ним, что-то говорит и тяжело, по одному, поднимает, чтоб я их увидела. Рувик так странно смотрит… Машет ручкой…
Их оттолкнули. Я их больше не вижу. Влезаю на камень у стены и оглядываюсь, но мамы нигде нет. Где мама? В глазах рябит. Очевидно, от напряжения. В ушах звенит, гудит… Откуда на улице река? Это не река, это кровь. Ее много, она пенится. А Рувик машет ручкой и просится ко мне. Но я никак не могу протянуть ему свою руку… Почему-то качаюсь. Наверно, островок, на котором стою, тонет… Я тону…
Почему я лежу? Куда исчезла река?
Никакой реки нет. Лежу на тротуаре. Надо мной наклонились несколько женщин. Одна держит мою голову, другая считает пульс. Где мама? Я должна увидеть маму! Но женщины не разрешают вставать: у меня был обморок. А ведь раньше никогда не бывало. (…)
Лагерь! Бараки. Они длинные, деревянные, одноэтажные. Окна слабо освещены. Кругом снуют люди. Все почему-то в полосатых пижамах. У одного барака происходит что-то странное: такие полосатые прыгают из окон. Выпрыгнут и бегут обратно в барак, снова появляются в окнах и опять прыгают. А гитлеровцы их бьют, торопят. Люди падают, но, поднятые новыми ударами, опять спешат прыгать. Что это? Сумасшедшие, над которыми фашисты так подло глумятся?
Нам велели все вещи сложить в одну кучу на площадке перед бараком. В бараки с вещами не пустят.
Площадку охраняют два солдата. Здесь же несмело вертятся несколько одетых в полосатую одежду мужчин. Они тихонько спрашивают, откуда мы. Мы тоже хотим узнать, куда попали. Оказывается, мы находимся недалеко от Риги, в концентрационном лагере «Кайзервальде». Если у нас есть курево или продукты — лучше поделиться с ними, потому что гитлеровцы у нас все равно отберут. Прыгающие через окна не сумасшедшие, а самые нормальные люди, наказанные за какую-то ерунду. Здесь за все наказывают, да еще не так. Одеты они вовсе не в пижамы, а в полосатую арестантскую одежду. Убежать нет надежды, потому что через проволоку пропущен ток высокого напряжения. Еды дают очень мало — двести пятьдесят граммов хлеба и три четверти литра так называемого супа. Часто в наказание оставляют на несколько суток совсем без еды. Они голодают. Если мы им ничего не можем дать — они побегут назад, потому что за разговор с женщиной наказывают двадцатью пятью ударами плети.
Наспех вытаскиваю из чемодана свои записки, сую за пазуху. Но все забрать не успеваю: постовой прогоняет.
Нас выстраивает немка, одетая в эсэсовскую форму. Неужели тоже эсэсовка? Наверно, да, потому что она орет и избивает нас… Сосчитав, дает команду бежать в барак и снова начинает бить, чтобы мы поторопились. У дверей давка. Каждая спешит шмыгнуть в барак, чтобы избежать плети. Другая эсэсовка стоит у дверей и проверяет, все ли мы отдали. Заметив в руках хоть малюсенький узелок или даже сумочку, гонит назад положить и это. При этом, конечно, тоже бьет.
Барак совершенно пустой — потолок, стены и пол. На полу сенники, а в углу — метла. Все. Надзирательница кричит, чтобы мы легли. Кто не успевает в то же мгновение опуститься, того укладывает метла. Бьет по голове, плечам, рукам — куда попало. Когда мы все уже лежим, она приказывает не двигаться с места. При малейшем движении стоящие за окнами часовые будут стрелять. Выйти из барака нельзя. Разговаривать тоже запрещается.
Поставив метлу на место, злая эсэсовка уходит. Женщины называют ее Эльзой. Может, услышали, что кто-то ее так называл, а может, сами прозвали.
Значит, я в концентрационном лагере. Арестантская одежда, прыганье через окно и какие-то еще более страшные наказания. Эльза с метлой, голод. Как здесь страшно! А я одна… Если бы мама была здесь… Где она теперь? Может быть, именно сейчас, в эту минуту стоит в лесу у ямы? И тот же ветер, который здесь завывает под окнами, ломает в лесу ветви и пугает детей! Страшно! Невыносимо страшно!.. (…)
Мама… Раечка, Рувик. Еще совсем недавно мы были вместе. Рувик хотел взять свои книжки. «На свободе будешь читать…»
Свисток! Длинный, протяжный. Смотрю — в дверях опять злая Эльза. Она кричит: «Арреll» «Проверка!» А мы не понимаем, чего она хочет, и сидим. Эльза опять хватает метлу. Бежим из барака.
Во дворе темно, холодно. Из других бараков тоже бегут люди. Они выстраиваются. Избивая, ругаясь, Эльза и нас выстраивает. Ей помогает еще один эсэсовец. Вдруг он вытягивается перед подошедшим офицером. Рапортует, сколько нас, и сопровождает офицера, который нас сам пересчитывает. Пересчитав, офицер идет к другим баракам. (…)
Нас загнали назад в барак и снова приказали сесть на сенники, не разговаривать и не шевелиться. Сидим. Вдруг я нащупала в кармане папину фотографию (как она сюда попала?). Посмотрела на папу, и стало так грустно, что я разрыдалась. Его нет, мамы тоже нет, а я тут должна одна мучиться в этом страшном лагере. Я здесь никогда не привыкну. И не смогу жить.
Сидевшая рядом женщина спросила, почему плачу. Я ей показала фотографию. А она только вздохнула: «Слезы не помогут…»
В дверях снова выросли эсэсовцы. Приказали строиться. Объявили, что мы обязаны отдать все деньги, часы, кольца — словом, все, что еще имеем. За попытку спрятать, зарыть или даже выбросить — смертная казнь! Офицер с коробкой в руках ходит между рядами. Сбор, конечно, очень жалкий. (…)
В дверях снова Эльза. Ее очень рассмешило, что мы все еще стоим. Поиздевавшись, она велела строиться по двое. Отсчитала десятерых и увела. Стоявшие ближе к дверям сообщили, что женщин ввели в находящийся на том конце площади барак.
Вскоре Эльза вернулась, отсчитала еще десятерых и опять увела. А первые не вышли… Неужели там крематорий? Значит, нас сюда привезли специально для того, чтобы уничтожить без следа. Несколько женщин, стоявших ближе к дверям, убежали в конец строя. Разве это поможет?
Я — в седьмом десятке. Передние ряды тают, их все меньше. Скоро будет и моя очередь…
Уже ведут… Эльза открывает дверь страшного барака. Никакого запаха. Может, этот газ без запаха? Темноватые сени. У стен набросано много одежды. Рядом стоят надзирательницы. Нам тоже велят раздеться. Одежду держать в руках и по двое подходить к этим надзирательницам.
Руки трясутся, трудно раздеться. А что делать с записками? Сую под мышки и прижимаю к себе. Подхожу. Эсэсовка проверяет мою одежду. Забирает шерстяное платье, которое мама велела надеть на летнее. Прошу оставить теплое платье, а взять летнее. Но получаю пощечину и умолкаю. Теперь эсэсовка проверяет рукава и карманы — не спрятала ли я чего-нибудь. Находит папину фотографию. Протягиваю руку, чтобы надзирательница мне вернула, но она разрывает фотографию на мелкие куски и бросает на пол. На одном обрывке белеют волосы, с другого смотрит глаз. Отворачиваюсь…
Нам приказывают быстро надеть оставленную нам одежду и выйти через заднюю дверь. Оказывается, там стоят все ранее уведенные. А те в бараках еще терзаются, думая, что ведут в крематорий. (…)
Наконец впускают в барак. К большущей нашей радости и удивлению, там стоит котел супа и стопка мисочек. Велят построиться в один ряд. На ходу надо взять мисочку, в которую Эльза нальет суп. Его надо быстро выхлебать, а миску поставить на место. В те же, даже несполоснутые, наливают суп следующим. Ложек вообще нет. (…) Дождалась и я своей очереди. Увы, суп удивительно жидкий. Просто черноватая горячая водичка, в которой величественно плавают и никак не хотят попасть в рот шесть крупинок. Но все равно очень вкусно. Главное — горячо. Только жаль, что еда так безжалостно убывает. Уже ничего не остается. А есть так хочется, даже больше чем до этого супа.
Несу миску на место. Смотрю — гитлеровец подзывает пальцем. Неужели меня? Да, кажется, меня. Несмело подхожу и жду, что он скажет. А он ударяет меня по щеке, по другой, снова по той же. Бьет кулаками. Норовит по голове. Пытаюсь закрыться мисочкой, но он вырывает ее из моих рук и швыряет в угол. И снова бьет, колотит. Не удержавшись на ногах, падаю. Хочу встать, но не могу — он пинает ногами. Как ни отворачиваюсь — все перед глазами блеск его сапог. Попал в рот!.. Еле перевожу дух. Губы сразу одеревенели, язык стал большим и тяжелым. А гитлеровец бьет, лягает, но теперь уже, кажется, не так больно. Только на пол капает кровь. Наверно, моя…
Наконец гитлеровцы ушли. Женщины подняли меня и помогли добраться до сенника. Они советуют закинуть голову, чтобы из носа перестала идти кровь. Они так добры, заботливы, что хочется плакать. Одна вздыхает: что он со мной, невинным ребенком, сделал! Другая проклинает его, а какая-то все старается угадать, за что он меня так избил… Может, неся на место мисочку, я слишком близко подошла к очереди, и он подумал, что хочу вторично получить суп?
Почему они так громко разговаривают? Ведь мне больно, все невыносимо болит! Хоть бы погасили свет! Не рассечена ли бровь? Она тоже болит. А передние зубы он выбил… (…)
На этот раз путь был недолгий. Мы въехали в какой-то большой двор. Он окружен высокой каменной стеной, над нею — несколько рядов колючей проволоки и лампы. Бараков нет. Есть только один большущий дом. В конце двора — навес с болтающимися по углам лампами. Оттуда доносятся очень приятные запахи. Неужели это кухня и нам дадут суп? Нас выстраивает немец в штатском. Темный полувоенный костюм и шапочка, очень похожая на арестантскую. Сосчитал нас и велел не трогаться с места, а сам ушел. Боязливо оглядываясь, к нам приблизились несколько мужчин. От них мы узнали, что лагерь называется Штрасденгоф и находится в предместье Риги Югле. Лагерь новый. Пока что здесь только сто шестьдесят мужчин из Рижского гетто. Женщин еще нет, мы первые. Будем жить в этом большом доме. Это бывшая фабрика. Мужской блок на первом этаже, наш будет на четвертом. Где нам придется работать — они не знают. Сами они работают на стройке. Работа очень тяжелая, тем более что работают голодные. Считавший нас немец, Ганс, — старший лагеря. Он тоже заключенный, уже восемь лет сидит в разных лагерях. За что — неизвестно. У него есть помощник — маленький Ганс. Комендант лагеря — эсэсовец, унтершарфюрер, ужасный садист. (…)
Мне велели носить камни. Мужчины мостят дорогу между строящимися бараками. Другие женщины привозят камни из оврага в вагонетках, а мы должны подносить их каменщикам. Конвоиры и надзиратели ни на минуту не спускают с нас глаз. Вагонетки должны быть полные, толкать их надо бегом и только вчетвером; разносить камни мы должны тоже бегом; мужчины обязаны быстро их укладывать. Все нужно делать быстро и хорошо, иначе нас расстреляют.
Камни ужасно тяжелые. Нести один камень вдвоем не разрешается. Катать тоже нельзя. Разговаривать во время работы запрещается. По своим нуждам можно отпроситься только один раз в день, притом надо ждать, пока соберется несколько человек. По одной конвоир не водит. (…)
Пальцы я разодрала до крови. Они посинели, опухли, страшно смотреть.
Наконец раздался свисток на обед. Нас быстро выстроили и повели в лагерь. Стоявшие первыми сразу получали суп, а мы должны были ждать, пока они его выпьют и освободят мисочки. Мы их торопили: боялись, что не успеем.
Так и вышло. Я только отпила несколько глотков, а конвоиры уже погнали строиться. Выбили у меня из рук мисочку, суп вылился, а я, еще более голодная, должна была стать в строй.
Опять таскаю камни. Теперь они кажутся еще более тяжелыми. И дождь более надоедлив. Один камень выскользнул из рук — прямо на ногу.
Я еле дождалась вечера. Вернувшись в лагерь, мы получили по кусочку хлеба и мутной водички — «кофе». Я все это проглотила тут же, во дворе, — не было терпения ждать, пока поднимусь на четвертый этаж.
Я уже наловчилась носить камни, так теперь велели их дробить. Я, конечно, не умею. Стукну молотком — а камень целехонек. Ударю сильнее — но отскакивает только осколочек, и тот — прямо в лицо. Оно уже окровавлено, болит, я боюсь поранить глаза. А конвоир кричит, торопит. Один мужчина предложил научить меня, но конвоир не разрешил: я должна сама научиться. Закрываю глаза, плачу от боли и обиды и стучу… (…)
Уже ноябрь. (…) Привезли машину деревянных башмаков. Когда их сгружали, я осмелилась подойти к Гансу. Он велел показать ботинки. Потом приказал заведующей камерой одежды выдать мне пару башмаков, а ботинки забрать. Жаль было расставаться — последняя вещь из дому, но что поделаешь, если они так порвались.
В камере одежды даже не спросили, какой мне нужен размер. Схватили из груды первую попавшуюся пару и бросили мне. Эти башмаки очень большие, но просить другие бессмысленно — стукнут за «наглость». Засуну туда бумаги, чтобы нога не скользила, и буду носить. Это «богатство» — тяжелые куски дерева, обтянутые клеенкой, — тоже записывают, что, мол, «Hftling 5007» получила одну пару деревянных башмаков. «Заключенная 5007» — это я. Фамилий и имен здесь не существует, есть только номер. Я уже привыкла и отзываюсь. На фабрике им же отмечаю сотканный материал. (Я уже работаю самостоятельно.) На каждых пятидесяти метрах пряжи появляется синее пятно. На этом месте сотканный материал надо перерезать, с обоих концов написать свой номер и сдать. Сдавая, я, как и все, мысленно желаю, чтобы фашисты этот материал использовали на бинты.
Вначале, только научившись самостоятельно работать, я очень старалась и почти каждый день сдавала по пятьдесят метров. Теперь меня научили саботировать — отвинтить немножко какой-нибудь винтик или надрезать ремень, и станок портится. Зову мастера, он копается, чинит, а потом вписывает в карточку, сколько часов станок стоял.
Каждый день у кого-нибудь «портится» станок, и все по-разному. (…)
Я говорила с одной рижанкой, которая знала тетю и дядю, до войны живших в Риге. К сожалению, оба уже в земле. Дядю расстреляли в первые дни, а тетя с двумя детьми была в Рижском гетто. Очень голодала, потому что не могла выходить на работу: негде было оставить детей. Так с обоими мальчиками и увели на расстрел.
Вчерашний ужас и вспомнить страшно, и забыть не могу. Вечером, когда работающие на стройке возвращались с работы, их у входа тщательно обыскали: конвоир сообщил, что видел, как прохожий сунул кому-то хлеб. Его нашли у двух мужчин — у каждого по ломтю. Во время вечерней проверки об этом доложили унтершарфюреру.
И вот проверка окончена. Вместо команды разойтись унтершарфюрер велит обоим «преступникам» выйти вперед, встать перед строем и раздеться. Они медлят — снег, холодно. Но удары плетью заставляют подчиниться. Нам не разрешают отвернуться. Мы должны смотреть, чтобы извлечь урок на будущее.
Из кухни приносят два ведра теплой воды и выливают им на головы. Бедняги дрожат, стучат зубами, трут на себе белье, от которого идет пар, но напрасно — солдаты несут еще два ведра теплой воды. Их снова выливают несчастным на головы. Они начинают прыгать, а солдат и унтершарфюрера это только смешит.
Экзекуция повторяется каждые двадцать минут. Оба еле держатся на ногах. Они уже не похожи на людей — лысая голова старшего покрылась тоненькой коркой льда, а у младшего волосы, которые он, страдая, рвет и ерошит, торчат смерзшимися сосульками. Белье совсем заледенело, а ноги мертвенно белы. Охранники катаются со смеху. Радуются этому рождественскому «развлечению». Каждый советует, как лить воду. «В штаны!» — кричит один. «Голову окуни!» — орет другой.
Истязаемые пытаются отвернуться, отскочить, но их ловят, словно затравленных зверей, и возвращают на место. А если хоть немного воды проливается мимо, вместо вылитых «зря» нескольких капель приносят целое ведро. Несчастные только поднимают ноги, чтобы не примерзли к снегу.
Не выдержу! С ума сойду! Что они вытворяют!
Наконец гитлеровцам надоело. Велели разойтись. Гансу приказали завтра этих двух от работы не освобождать, даже если будет температура сорок градусов.
Старший сегодня умер. Упал возле вагонетки и больше не встал. Второй работал, хотя еле держался на ногах, бредил от жара. Когда конвоиры не видели, товарищи старались помочь ему как-нибудь продержаться до конца работы. Иначе ему не избежать расстрела. (…)
Эсэсовцы придумали новое наказание.
Может, это даже не наказание, а просто издевка, «развлечение». Скоро весна, и держать нас на морозе уже не так интересно.
После проверки Ганс велел перестроиться, чтобы между рядами оставался метровый промежуток. Затем приказал присесть на корточки и прыгать. Сначала мы не поняли, чего он от нас хочет, но Ганс так заорал, что, даже не поняв его, мы стали прыгать. Не удерживаюсь на ногах. Еле дышу. А Ганс носится между рядами, стегает плеткой и кричит, чтобы мы не симулировали. Только приседать нельзя, надо прыгать, прыгать, как лягушки.
Сердце колотится, задыхаюсь! Хоть бы на минуточку отдышаться. Колет бок! Везде болит, больше не могу! А Ганс не спускает глаз.
Одна девушка упала в обморок. Скоро и со мной, наверно, будет то же самое. Подойти к лежащей в обмороке Ганс не разрешает. Все должны прыгать. Упала еще одна. Она просит о помощи, показывает, что не может говорить. Кто-то в ужасе крикнул: «Она онемела!»
Наконец Ганс тоже устал. Отпустил. Лежащих без чувств не разрешил поднимать — «симулируют, сами встанут». А если на самом деле в обмороке, значит, они слабые и не могут работать, надо записать их номера. Женщины хватают несчастных и волокут подальше от Ганса. Сами не в состоянии выпрямиться, почти на четвереньках, мы тащим все еще не пришедших в сознание своих подруг. Но только до лестницы. По лестнице не можем подняться. Сидим на каменном полу и ртом хватаем воздух. Некоторые пытаются ползти, но, с трудом поднявшись на несколько ступенек, остаются сидеть. Я все еще задыхаюсь, не могу начать нормально дышать. Прошу одну женщину, чтобы помогла мне опереться о перила — может, придерживаясь, немного поднимусь. Но что это? Еле выдавливаю слово. Чем больше стараюсь, тем труднее что-нибудь сказать. (…)
Вдруг в дверях вырос Ганс. Осмотрел нас, покрутился и как ни в чем не бывало спросил, почему здесь так тихо. Ведь сегодня воскресенье, праздник — надо петь. Молчим. «Песню! — заорал он со злостью. — Или будете прыгать!» Одна затянула дрожащим голоском, другая запищала. Их несмело поддержало еще несколько хрипящих голосов. Пытаюсь и я. Рот раскрывается, а в него текут соленые слезы… (…)
Опять убежали! На этот раз из шелковой фабрики, и уже не трое, а девять человек — семь мужчин и две девушки.
В лагере паника. Снова должен приехать тот же главный шеф. Унтершарфюрер носится как бешеный. Орет на Ганса, что тот не умеет выстраивать «этих свиней». Нам грозит, что всех до одного расстреляет. Охранников пугает, что завтра же отправит их на фронт. Маленького Гансика ругает за то, что здесь много грязи. Увидев въезжающую машину шефа, умолкает. Бежит навстречу, вытягивается и рьяно кричит: «Хайль Гитлер!» Но шеф только зло выбрасывает вперед руку.
На этот раз, даже не считая, отбирает заложников: бежит вдоль строя и тыкает плеткой. Приближается к нам… Идет. Смотрит на меня… Поднимает руку… Плетка скользнула мимо самого лица. Ткнула Машу. Она сделал три шага вперед… Ее заберут!.. Расстреляют!..
Шеф подошел к мужчинам. Работающим на шелковой фабрике приказал выстроиться в один ряд. Двух отсчитывает, третьему велит выйти вперед, двух отсчитывает, третьему — вперед. И так весь ряд…
Отобранных выстроили перед нами. Маша тоже стоит среди них. Шеф произносит речь. Мол, виноваты мы сами. Он нас предупреждал: здесь все отвечают за одного. Нам вообще не следовало бы убегать. Ведь работой, крышей и едой мы обеспечены. Надо только хорошо работать, и мы могли бы жить. А за попытку бежать — смертная казнь. Не только тем, которых все равно поймают, но и нам. Черные машины въехали во двор… (…)
В лагере нас встретила мертвая тишина. Раньше мы на проверку выстраивались вдоль всего здания, а сегодня нас хватило только до дверей…
После проверки снова дали работу. Мужчины носили воду, а мы мыли полы, лестницу, даже крышу — смывали пятна крови.
Оказывается, когда обреченных гнали к машинам, мужчины пытались бежать. Одни полезли через забор, другие бросились в блоки, котельную, туалеты. Конвоиры, стреляя, побежали за ними. В блоках и на лестнице убивали прямо на месте. Двое повисли мертвыми на заборе. Найденного в котельной хотели бросить живым в огонь вместе с
прятавшими его истопниками. Но больше всего пришлось возиться с одним рижанином, спрятавшимся в трубе. Его никак не могли оттуда извлечь. Выстрелили разрывными пулями, раздробили голову. Тело потом сволокли по лестнице. Бросили в машину вместе с живыми. На лестнице в лужице застывшей крови остался комочек его мозга. Мы завернули его в бумажку и зарыли во дворе у стены. Вместо надгробья положили белые камушки…
Поздно вечером нас впустили в блок. Непривычно пусто. Разговариваем вполголоса, как будто здесь покойник. Спать ложимся все вместе, в одном углу. (…)
Получен приказ срочно эвакуировать лагерь. (…)
У ворот стоят офицеры. Они нас пересчитывают и впускают внутрь. У входа постовой монотонно предупреждает, что подходить к ограде запрещается — она под током.
Мы входим в первую клетку. Ворота за нами закрывают. Открывают следующие, в другую такую же клетку. Снова закрывают. Пропускают в третью клетку. И так все дальше, все глубже в лагерь. Когда проходим мимо бараков, заключенные с нами заговаривают, спрашивают, откуда мы. Хотя за разговоры охранники нас бьют, мы не удерживаемся и отвечаем. Из бараков к нам обращаются по-русски, по-польски, по-еврейски. У одного барака стоят ужасно худые женщины, очевидно больные. Они ни о чем не спрашивают, только советуют остерегаться какого-то Макса. (…)
Нас провели в самые последние — девятнадцатый и двадцатый бараки. Здесь уже стояло несколько эсэсовцев и один штатский, но с номером заключенного. Крикнув, чтобы мы выстроились для проверки, этот штатский сразу же начал нас бить и пинать. За что? Ведь мы равняемся, а он ничего другого не велел.
Я вытянулась, замерла. Но этот штатский подлетел, и я, даже не успев сообразить, в кого он метит, скрючилась от страшной боли. А эсэсовцы стояли в стороне и гоготали.
Этот изверг избил всех — от одного конца строя до другого, причесался, поправил вылезшую рубашку и начал считать. Но тут один офицер заметил, что уже пора обедать, и они ушли, оставив нас стоять.
На другом конце строя стоят несколько десятков женщин. Они рассказывают о здешней жизни, и каждое их слово шепотом передается из уст в уста. Они из Польши. В этих блоках еще только неделю, раньше были в других. Здесь хуже, потому что старший этих блоков — Макс, тот самый, который сейчас избивал. Это дьявол в облике человека. Нескольких он уже забил насмерть. Сам он тоже заключенный, сидит одиннадцатый год за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость.
Так вот что значит настоящий концентрационный лагерь! Выходит, в Штрасденгофе еще было сравнительно терпимо… (…)
Пришли одетые в черное эсэсовцы, велели выстроиться и по одной проходить мимо них, показывая ноги. У кого на ногах очень много нарывов, тех сразу прогоняли, а у кого нарывов относительно немного, у тех проверяли еще и мышцы рук.
Я попала в число более крепких. Нас выстроили, сосчитали. Двух крайних погнали назад, чтобы осталось ровное число — триста. Охранник открыл ворота и вывел нас в соседнее отделение. Мы вздохнули с облегчением: будем хотя бы подальше от страшного Макса. Теперь мы и от остальных своих отгорожены проволокой. Они, бедные, стоят у ограды и с завистью смотрят на нас: мы поедем на работу, а они останутся здесь.
Кто-то пустил слух, что нас пошлют в деревню, к крестьянам. Офицеры об этом говорили между собой. Хуже, очевидно, не будет. Слух, кажется, подтвердился.
Приходил охранник. Взял десять женщин, спросил, умеют ли они доить коров. Все, конечно, поспешили заверить, что умеют. А если меня спросят?.. Скажу правду — не возьмут. Совру, что умею, — это скоро выяснится, и меня вернут в лагерь. Что делать? Спрашиваю у других, что скажут они. Но женщины только смеются над моими сомнениями.
Охранник вывел тридцать шесть женщин, в том числе и меня. Каждой выдали по рваному солдатскому одеялу. У ворот ожидали какие-то люди. Они начали нас выбирать. Осматривают, щупают мышцы, спрашивают, не лентяйки ли. (…) На меня никто не обращает внимания, все проходят мимо. Наверно, не возьмут и придется вернуться в этот ад. Может, самой напроситься? Другие так делают. Говорю: «Ich bin stark» -«Я сильная». Но никто не слышит. «Ich bin stark», — повторяю уже громче. «Was, was?» — спрашивает какой-то старик. Начинаю быстро объяснять, что хочу работать, что я не ленива. «Ja, gut!» — отвечает он и проходит… Но, очевидно, передумав, возвращается. Отводит меня в сторону, где уже стоят три отобранные им женщины.
Подходит конвоир, записывает наши номера и ведет вслед за хозяином. Идем той же дорогой, которой пришли сюда. Домики так же уютно отдыхают под лучами солнца. Садимся в вагончик узкоколейки. Конвоир не спускает с нас глаз. У самого моего лица грозно блестит его штык.
Наш хозяин — невысокий, кривоногий, лысый старик; глаза — еле прорезанные щелочки, а голос — хриплый и злой. Нами он, очевидно, недоволен. Жалуется конвоиру, что от такой падали не будет никакой пользы. У него уже было четверо таких, как мы, те были из Венгрии, но скоро ослабели, и пришлось увезти их прямо в крематорий. Ну и попались! А я, дура, еще сама напросилась.
Поезд остановился, и мы слезли. Оказывается, за вокзалом хозяин оставил свою двуколку. Конвоир связал нам руки и еще привязал нас друг к другу. Сам уселся рядом с хозяином, и мы двинулись. Отдохнувшая лошадь трусила рысцой. Мы должны были бежать, иначе веревки врезались бы в тело. Мы задыхались, еле дышали, но боялись это показать: хозяин скажет, что мы слабые, и сразу пошлет назад, в крематорий. (…)
Наконец свернули на узкую дорожку, проехали мимо пруда и оказались на большом дворе. Величественно красуется дом, зеленеет сад; поодаль стоят хлев, сарай, конюшни. Видно, крепкое хозяйство. Хозяин еще раз проверил наши номера и расписался, что принял нас от конвоира. Развязывая руки, прочел проповедь: мы обязаны хорошо и добросовестно работать, не саботировать и не пытаться бежать. За саботаж он пошлет нас прямо в крематорий, а при попытке бежать — застрелит на месте. Так напугав, повел в предназначенную для нас каморку. Она в самом конце хлева, полутемная, потому что свет проникает через малюсенькое, засиженное мухами оконце. За стеной хрюкают свиньи… Сенников и подушек нет, только в углу набросано сено. Это будет наше ложе. Просить сенники бессмысленно — все равно не даст. Я осмелилась сказать, что мы очень голодны: сегодня еще ничего не ели. Хозяин скривился и велел следовать за ним. В сенях приказал снять башмаки: в кухню можно входить только босиком. В комнаты входить нам вообще запрещается. Это я должна передать и своим подругам. (…)
Если б не рижанка Рая, мы бы хоть в эту минуту могли забыться, не терзать сердце. Но она ни на минуту не умолкает. Уже в третий раз за эти несколько дней она все с новыми подробностями рассказывает о том, как потеряла своего ребенка. В Рижском гетто она еще была с мужем и ребенком. Узнав, что детей заберут, они решили покончить с собой. Муж сделал укол ребенку, затем ей и себе… К сожалению, они проснулись. Ребенка не было. Они даже не слышали, когда его забрали. Теперь ее мучает страх, что ребенок, может быть, проснулся раньше их и плакал в испуге, будил их, а они не слышали… Может, палачи его били, выкручивали ручки. Ведь он, наверно, вырывался от них… Муж почти лишился рассудка. Он никак не мог понять, почему яд не подействовал… (…)
Нас возвращают в лагерь. (…)
Нас повели в баню, велели раздеться и впустили в большой предбанник. Войдя туда, мы обомлели: прямо на каменном полу сидели и даже лежали страшно изможденные и высохшие женщины, почти скелеты с безумными от страха глазами. Увидев за нашими спинами надзирательниц, женщины стали испуганно лепетать, что они здоровые, могут работать и просят их пожалеть. Тянули к нам руки, чтобы мы помогли им встать, тогда надзирательницы сами убедятся, что они еще могут работать…
Я шагнула, чтобы помочь сидящей вблизи женщине, но надзирательница отшвырнула меня назад. Властно чеканя слова, она велит не поднимать паники — всех помоют и вернут в лагерь. Когда поправятся — смогут вернуться на работу. Мыться должны все без исключения: грязных в лагерь не пустят.
Нам она приказывает этих женщин раздеть и вести в соседнее помещение, под душ. От страшного запаха меня мутит. Хочу снять с одной женщины платье, но она не может встать: ноги не держат. Пытаюсь поднять, но она так вскрикивает от боли, что я замираю. Что делать? Поглядываю на других. Оказывается, они мучаются не меньше меня. Надзирательницы дают нам ножницы: если нельзя снять одежду, надо разрезать.
Ножницы переходят из рук в руки. Получаю и я. Разрезаю платье. Под ним такая худоба, что даже страшно дотронуться. Кости прикрывает только высохшая морщинистая кожа. Снять башмаки женщина вообще не позволяет — будет больно. Я обещаю верх разрезать, но она не дает дотронуться. Уже две недели не снимает башмаков, потому что отмороженные, гноящиеся ступни приклеились к материалу.
Что делать? Другие уже раздели нескольких, а я все еще не могу справиться с одной. Надзирательница это, видно, заметила. Подбежала, стукнула меня по голове и схватила несчастную за ноги. Та душераздирающе закричала. Смотрю, в руке надзирательницы башмаки с прилипшими к материалу кусками гниющего мяса. Меня затошнило. Надзирательница раскричалась, но я плохо понимала ее. (…)
Когда надзирательница отвернулась, я спросила у одной женщины, откуда она. Из Чехословакии. Врач. Привезли в «Штуттгоф», а затем, как и нас, увезли на работу. Они рыли окопы. Работали, стоя по пояс в воде. Спали на земле. Когда обмороженные руки и ноги начали гноиться, вернули в лагерь. (…)
Эпидемия! Она охватит всех, невзирая ни на возраст, ни на вид. Тиф не разбирает… К тому же нас, конечно, не будут лечить. Может, даже нарочно заразили, чтобы мы вымерли. Не заболевают ли от этого страшного супа? Может, он такой острый не от перца?
Как уберечься? Как найти в себе силы не есть этот суп, нашу единственную пищу? Как научиться совсем-совсем ничего не есть, даже не сосать этот грязный снег? Кажется, я заболеваю. Голова тяжелая и гудит. Во время проверок меня поддерживают под руки, чтобы я не упала. Неужели это тиф?!.
Я болела… Женщины рассказывают, что в бреду я напевала какие-то песенки и страшно ругала гитлеровцев. Они даже не подозревали, что я знаю столько ругательных слов. Хорошо, что голос слабенький, да и гитлеровцы сюда больше не заходят — боятся заразиться. За такие слова пристрелили бы на месте.
А мне неловко, что я ругалась. Объясняю, что у нас в семье никто никогда… Папа адвокат. Женщины улыбаются моим объяснениям…
Говорят, что я выкарабкалась. Переболела. А мне кажется, что они ошибаются. Это, наверно, было что-нибудь другое, еще не тиф. Ведь тиф — страшная болезнь! Я бы так просто, без лекарств, не выздоровела, ведь умирают более крепкие, чем я. Но женщины объясняют, что тиф как раз сокрушает крепкие, никогда не болевшие и поэтому не привыкшие бороться с болезнью организмы. Знала бы мама, как спасли ее мучения со скарлатинами, желтухами и плевритами моего детства!..
Во двор умыться снегом ползу на четвереньках. Встать не могу — перед глазами расплываются зеленые круги.
Здесь настоящий лагерь смерти. Гитлеровцы уже не следят за порядком. Проверок нет: они боятся войти. Есть не дают. Даже так называемый суп получаем раз в два-три дня. Иногда вместо него приносят по две мерзлые картофелинки. Хлеба мы уже давно не видели. А есть ужасно хочется: я начинаю выздоравливать. Донимают вши. Уже не стесняясь, давим. Но, к сожалению, их не становится меньше.
Умерла красавица Рут. Начали гноиться ноги, потом руки. И вот она умерла… В последнее время уже не вставала. А ведь еще в Штрасденгофе она была такая красивая! Всегда бодрая, не поддающаяся плохому настроению. Как она верила, что мы дождемся свободы и что она встретится с мужем! Теперь ее, страшно распухшую, сунут в печь крематория. Все. Молодость, красота, жизнелюбие превратятся в пепел…
Кто-то уверяет, что уже Новый год. Слышал, как один постовой поздравлял с Новым годом надзирателя.
Значит, уже 1945-й… В этом году война наверняка кончится. Ведь гитлеровцев уже добивают. Но… Не зря говорят, что смертельно раненный зверь страшен вдвойне. Неужели мы будем его предсмертными жертвами? Не может быть! Зачем думать, что, отступая, обязательно уничтожат нас? А может, не успеют? И тогда мы будем свободны! Может, и мама с детьми в каком-нибудь лагере? Их тоже освободят. И папа вернется. (…)
Рая, с которой мы вместе работали у помещика, рассказывает, что слышала от разносчика супа, будто ночью в крематории был пожар. Сгорела газовая камера. Предполагают, что кто-то поджег. Нас это все равно не спасет.
Жуть! Я спала, уткнувшись в труп. Ночью я этого, конечно, не чувствовала. Было очень холодно, и я уткнулась в спину соседки. Руки подсунула ей под мышки. Кажется, она зашевелилась, прижимая их. А утром оказалось, что она мертва…
Пришла надзирательница. Велела всем, кто уже переболел, выстроиться. Думая, что будут отправлять на работу, пытались встать и больные. Но она сразу заметила обман. Нас очень немного. Надзирательница отобрала восьмерых (в том числе и меня) и заявила, что мы будем «похоронной командой». До сих пор был большой беспорядок, умершие по нескольку дней лежали в бараках. Теперь мы обязаны умерших сразу раздеть, вырвать золотые зубы, вчетвером вынести и положить у дверей барака. По утрам и вечерам мимо будет проезжать лагерная похоронная команда и увозить трупы. (…)
Подходим к одной женщине, которая умерла сегодня утром. Беру ее холодную ногу, но поднять не могу, хотя тело умершей совершенно высохшее; остальные три уже поднимают, а я не в состоянии. Надзирательница дает мне пощечину и сует в руки ножницы и плоскогубцы: я должна буду раздевать и вырывать золотые зубы. Но если осмелюсь хоть один присвоить — отправлюсь вместе со своими пациентками к праотцам. (…)
Словно насмехаясь надо мной, покойница сверкает золотыми зубами. Что делать? Не могу же я их вырвать! Оглянувшись, не видит ли надзирательница, быстро зажимаю плоскогубцами рот. Не станет же она проверять. Но надзирательница все-таки заметила. Она так ударяет меня, что я падаю на труп. Вскакиваю. А она только этого и ждала — начинает колотить какой-то очень тяжелой палкой. И все метит в голову. Кажется, что голова треснет пополам, а надзирательница не перестает. На полу кровь…
Она избивала долго, пока сама не задохнулась. (…)
Мы уже целую неделю в Стрелентине. Это бывшее поместье. (…) Нас держат запертыми в хлевах. (…)
Страшно загремело. Один за другим послышались глухие взрывы. Сидевшая рядом с нами собака конвоира насторожилась. И видневшиеся у сарая гитлеровцы засуетились. Одни смотрят в небо, другие спорят между собой. (…) Что это? Конвоиры подкатывают к сараю бочки! Подожгут! Мы будем живыми гореть!..
Нас впускают в сарай. Там много женщин, не только из нашего лагеря. Тут же, прямо на земле, в смеси отрубей, сена и навоза, лежат умирающие и умершие. Им уже все равно… Сказать или нет? Промолчу. Пусть не знают, будут спокойнее. Нет, скажу. Хоть одной. Шепчу эту страшную весть соседке слева. Но она меня, кажется, не поняла. Или не слышала — кругом гремят взрывы. Говорю другой. Та с криком бросается к щелке, смотрит. (…) Ужас охватывает и многих других. Все начинают стучать, метаться. Но никто ничего не видит. Охранников нет.
Гудит… Приближается! Самолеты? Меня трясут за плечи. Кто? Снова эта венгерка. Спрашивает, понимаю ли я по-польски. Что он кричит? Он кричит, что в деревне уже Красная Армия, а гитлеровцы удрали. (…) Почему такой шум? Почему все плачут? Куда они бегут? Ведь растопчут меня! Помогите встать, не оставляйте меня одну!
Никто не обращает на меня внимания. Хватаясь за голову, протягивая вперед руки, женщины бегут, что-то крича. Спотыкаются об умерших, падают, но тут же встают и бегут из сарая. А я не могу встать.
За сараем слышны мужские голоса. Красноармейцы?! Неужели они?! Я хочу туда! К ним! Как встать?
В сарай вбегают красноармейцы. Они спешат к нам, ищут живых, помогают встать. Перед теми, кому их помощь уже не нужна, снимают шапки. «Помочь, сестрица?»
Меня поднимают, ставят, но я не могу двинуться, ноги дрожат. Два красноармейца сплетают руки, делают «стульчик» и, усадив меня, несут.
Из деревни к сараю мчатся санитарные машины, бегут красноармейцы. Один предлагает помочь нести, другой протягивает мне хлеб, третий отдает свои перчатки. А мне от их доброты так хорошо, что сами собой льются слезы. Бойцы утешают, успокаивают, а один вытаскивает носовой платок и, словно маленькой, утирает слезы.
— Не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим!
А на шапке блестит красная звездочка. Как давно я ее не видела!..
Январь 1942 г. (…) В ноябре 1941 г. в Феодосию ворвались немцы. Возможность эвакуироваться мы не имели, во-первых из-за болезни отца, а во-вторых брату Анатолию было всего 4 года, а сестре Дине не было ещё года. Кроме того корабли, выходившие из порта, сразу же топились немецкими самолётами. Через 2 месяца после вступления немцев, 1 января 1942 года, в Феодосии был высажен нашим флотом десант, который продержался 3 недели, до 21 января 1942 г., когда в город опять вошли немцы. (…)
Ну так, стало быть сегодня я решил начать мой дневник. Я очень жалею, что не начал его раньше. Хотя все равно я не смог бы записать все те ужасы, которые прошли перед моими глазами, да и к тому же они незабываемы. Да вот еще и сегодня только мы с отцом вышли за ворота, сразу же мы увидели огромный столб дыма и огня, это горел трехэтажный дом, который находится против Союзтранса. Весь город представляет скелеты зданий, воронки и развалины.
Все лучшие места города разбиты и исковерканы. Вокзал, «Астория», гидротехникум, 1 школа, 6 школа, огромная табачная фабрика, горсад, купальня, базар, много пекарен, выгорела вся Итальянская и весь порт. Кроме того сотни мелких домиков также были разбиты. Были разбиты все водопроводные трубы, город пил воду из подвалов, воронок, люков, известковых ям. Всего не описать.
Мы пошли с отцом за водой к известковой яме. Повсюду на улицах ходили немцы, валялись рассыпанные патроны, гранаты, осколки от бомб, от снарядов, целые неразорвавшиеся снаряды. По разбитому магазину, собирая доски, ходили люди. На площади, где находилась известковая яма, были построены 3 новых двухэтажных дома, один из них уже был разбит. Недалеко догорал склад боеприпасов, устроенный в бывшем детдоме. Возле раскопанных бомбоубежищ валялся убитый человек. Площадь была усеяна неразорвавшимися снарядами и мелкими бомбами. Набрав воды, мы вернулись домой.
За отцом пришел Белосевич и сказал, что немцы приказали в один день починить пекарню и на другой день выпечь хлеб. Я тоже пошел туда. Мой отец — и стекольщик, и жестянщик, и пекарь, и кровельщик, и лудильщик, и знает много других профессий. Когда мы пришли в пекарню, там уже было 5 человек рабочих, которые привезли разные вещи для оборудования пекарни. Они вычистили корыта для теста, выскребли полы. Одна небольшая комната пекарни была завалена упавшей стеной. Они забили двери в нее. Я нарубил дров и растопил печку. Отец повставлял стекла. Я пошел в разрушенный двор собирать дрова и нашел там несколько интересных книг. Собирая дрова, я полез по нагроможденным камням, вдруг один камень соскользнул у меня из-под ноги и я почувствовал, что проваливаюсь. Я выпустил из рук дрова и еле удержался на вытянутых руках. Еще немного и я бы был завален грудой камней. (…)
28 января 1942 г. Сегодня утром я начал читать найденную в развалинах книгу «Исторический вестник». Там мне очень понравился рассказ «Шлиссельбургская трагедия» и «Светлый ключ».
Потом я пошел в пекарню, там уже было готово тесто. Я нарубил дров для печки, на которой стоял котел с водой. Белосевич разжег форсунку. Когда хорошо вытопили печку, начали сажать хлеб. Убрали обсыпавшуюся штукатурку. Пришла уборщица, помыла окна и корыта. Поставили дрожжи и закваску на завтра. Потом начали вынимать хлеб. Когда вынули хлеб, каждый взял себе по буханке и все начали расходиться. Я тоже взял буханку и пошел домой.
Папа остался для того, чтобы выдать хлеб комендатуре.
Придя домой, я нарубил дров для трубы, отапливающей комнату, в которой жили офицер и денщик. Они заставляли топить им трубу каждый день.
Нарубив дров и пообедав, вышел во двор. Там был Боря, который во время боя в городе ночевал на горе у Джона, откуда был виден весь город и море. Теперь Борис забил выпавшие у него в квартире стекла фанерой, перенес обратно вещи, которые он с отцом раньше перенес к Джону. У него было 8 голубей, но их съели немцы.
Теперь мы как бы отдыхали. Только изредка где-то пролетит самолет, раздастся несколько выстрелов, и все.
А то с 29 декабря и до 21 января город беспрестанно бомбили немецкие самолеты. В это время много ужасов прошло перед моими глазами. Недалеко от базара в один двор попало несколько бомб и под развалинами остались 30 человек, только нескольких сумели откопать, остальные погибли. Но самое неизгладимое впечатление у меня осталось — это гибель корабля. Я решил описать ее в этом дневнике.
Мы с Борисом воспользовавшись некоторым затишьем пошли на гору к Джону. Дул тихий ветерок. На море были небольшие волны. На горизонте показался корабль. В воздухе носилось несколько советских самолетов. Я указал Борису на приближающийся корабль. Корабль подошел к пристани, но сделав полукруг отошел километра на три, так он делал три раза, прошло с полчаса, как мы смотрели за ним. Самолеты кружились в воздухе. Я подумал о том, что если он повернет в четвертый раз, что-нибудь должно случиться. Пароход повернул в четвертый раз. И вот, когда советские самолеты чуть отлетели в сторону, далеко за Лысой горой показались точки немецких самолетов. Их было 7 истребителей и 5 бомбардировщиков. Истребители быстро оттеснив наши самолеты, скрылись в тучах. Бомбардировщики продолжали свой путь. Наши самолеты были далеко в стороне. Зенитки создали огненную преграду. Но немецкие самолеты штопором понеслись вниз и поднырнули под разрывы снарядов. Выровнявшись и опустившись гораздо ниже немецкие самолеты начали пикировать на корабль. Корабль полным ходом шел к порту, чтобы в нем укрыться. Мы поняли, чтобы корабль погиб. Самолеты быстро приблизившись к кораблю выстроились в шеренгу и начали по очереди бросать бомбы. Вот бросил первый самолет, но корабль быстро застопорил машины и все пять бомб подняли огромный водяной столб впереди корабля. Кинул второй, но корабль сразу рванулся с места, позади него разорвались все бомбы. Третий снизился ниже всех и бросил свою пятерку в корабль. Но корабль резко повернулся в открытое море. Но четвертый и пятый самолет кидали сразу вместе. Корабль повернулся к порту и затормозил. Пять бомб разорвались впереди корабля, обдавая его ледяными брызгами, но пять других попали в самый центр корабля. Корабль как будто ни в чем не бывало продолжал идти вперед, ничто не показывало, что в него попали бомбы. Все пять немецких самолетов, думая что они не попали, снизились метров на 50 и начали из пулеметов стрелять по слободкам. Вскоре они скрылись за горой.
Корабль минуты три быстро шел по направлению к порту, вдруг он разом остановился, тяжелый дым повалил из его середины, видно было как с борта слетела лодка, как люди прыгают в ледяную воду и как все сразу плывут к лодке, цепляются за ее борта. Пароход быстро пошел в воду. На капитанском мостике мелькнуло несколько огоньков и потом еще несколько мелькнуло на корме корабля, люди кончали самоубийством. Прошло минуты две и корабль скрылся под водою. Из порта вышел катер спасать людей, за ним вышел второй. Они подошли к месту гибели корабля, спустили шлюпки и начали подбирать людей. На горизонте вновь показались пять бомбардировщиков. Катера быстро подняли шлюпки и ушли в порт. Бомбардировщики приблизились ближе и повернули обратно, корабля уже не было, из воды торчали две мачты, это все, что напоминало о корабле. (…)
31 января 1942 г. С утра была слышна канонада. Часам к 9 она затихла. Папа ушел на работу раньше чем обычно, потому что они должны были сегодня сделать два оборота. Когда мы позавтракали, я сел читать сборник рассказов Ясенева «Солнечная сторона». Я прочел рассказы «Когда цветут липы», «На полустанке», «Светлый день», «Славные ребята» и «Язык чувств». Больше всего мне понравился «Язык чувств». Потом я отнес починить Толины ботинки. И наконец часа в 2 я пошел в пекарню. Там уже сажали хлеб во второй раз. Потом начали приезжать за хлебом. Приехал переводчик от местной комендатуры и привез 68 килограмм муки.
1 февраля 1942 г. Утром опять гремели пушки, они гремели всю ночь перед этим и почти весь день. У меня выскочили чиряки под коленкой и я почти не мог ходить. Однако же я вышел во двор и начал помогать выкачивать насосом воду из подвала. Вдруг раздалось несколько далеких выстрелов, это стреляли по самолетам. Два каких-то самолета летели над краем моря. Вокруг них разрывались снаряды. Кто стреляет, определить было нельзя. Вскоре самолеты скрылись на горизонте. Мы с Борисом пошли за дровами. Набрав на развалинах порядочное количество дров, мы вернулись домой. Я порубил дрова и отнес домой. Там я прочел несколько рассказов из старых журналов «Работница», которые папа принес из разбитого дома, чтобы растоплять печи. Потом мама приготовила обед и пришел папа.
Днем были слышны взрывы, это взрывали порт, опасались десанта. В городе ходили разные ложные слухи. Говорили, что в Черное море вошел Английский флот и что к городу подходила английская подводная лодка. (…)
3 февраля 1942 г. Утром чиряки стали болеть гораздо тише. После завтрака я начал читать книгу «Моя земля», написал ее Иван Краш. Она мне очень понравилась. Сегодня папа был выходной. Он встретил Аликину маму, которая сказала что они к нам придут. Алик это мой друг, но я с ним не виделся уже месяца два. Они пришли в 2 часа. Я показал Алику дневник, разные книги. Он сказал, чтобы завтра я приходил к нему. Ушли они часа в четыре. Мы пообедали. Потом я дочитал книгу, мама переменила компресс и мы легли спать. Да, еще сегодня от нас ушел офицер в наш двор, но в другую комнату. К нам пришел другой офицер, по-видимому, добрый.
4 февраля 1942 г. Утром, когда мы сидели за завтраком, мимо проходил офицер, он сказал «Доброе утро» и дал Дине пачечку конфет. Значит, он добрый. Сегодня я начал читать книгу Чернышевского «Что делать»… Часов в 10 я пошел к Алику. С ним я провел весь день. Вечером я опять читал «Что делать». Потом мама опять переменила компресс, я заснул. (…)
7 февраля 1942 г. Сегодня с утра летали самолеты. Часов в 10 папа принес убитого, но еще свежего голубя. Мама ощипала его и решила сделать суп. Потом я пошел в пекарню. Там я пробыл весь остальной день. Потом мы с папой пошли домой. Дома папа взял один хлеб и пошел к одному дяде, чтобы обменять его на мясо. Потом он принес мяса и мы сели обедать. Был уже вечер. (…)
10 февраля 1942 г. С утра было пасмурно, весь город окутал туман. Во дворе была такая грязь, что невозможно было пройти.
Сегодня из нашего двора уходили немцы, которые до этого здесь остановились, а пришли новые. Немцы забирали на подводы все свои вещи и много чужих. Лошади и подводы намесили грязи еще больше. Я не выходил со двора и большую часть дня читал книги.
2 мая 1944 г. В 9 часов утра. Если записать все, что случилось со мной за время от 8-го апреля и до сегодняшнего дня, то не хватит бумаги. Буду писать покороче. 9-го апреля было воскресенье и мы гуляли в городе, ничего не зная. 10-го шеф не посылал нас на работу и не отпускал домой. 11-го было тоже самое. Сильно бомбили русские штурмовики, а кроме того началась грабиловка. Отчего это произошло никто ничего не мог понять, однако было ясно, что немцы сматывают удочки.
12-го утром в общежитии осталось не больше 10-ти человек, а остальные несмотря на запертые двери и ворота сумели убежать домой. Нас посадили на автомашины и повезли за город. Там сумело убежать еще несколько человек, а мне не везло. Собралась колона, машин пятнадцать и нас повезли на Севастополь. В Старом Крыму еще было спокойно, только шло много войск, машин и подвод. Здесь создалась пробка, и воспользовавшись моментом убежал шофер Валентин, испортив машину.
До этого нас везли на двух грузовиках, причем на каждом сидело по немцу с автоматом, а сзади на легковике ехал шеф, тоже с автоматом. Теперь мы все ехали на одном грузовике, а с нами два немца, а сзади по-прежнему легковик.
За Старым Крымом партизаны обстреливали дорогу, но мы проехали благополучно. Через Карасубазар, Симферополь и Бахчисарай мы проехали не останавливаясь, а к вечеру были уже в 20 км от Севастополя. Здесь наша колона из 15 автомобилей разрослась до колоны в несколько тысяч машин.
Тысячи машин были впереди нас, а также тысячи позади, причем колонна шла в два ряда машин и ряд румынских повозок.
Все машины стояли одна около другой, а двигались в час не больше чем полкилометра, с длительными остановками. Тоже было и днем 13-го. Часов в 12 был налет штурмовиков и убежали Дешкевич и Возовенко. В час убежал Дятлов, а мне все не везло. Наконец в три часа, когда мы были в 9-ти км от Севастополя, образовалась пробка, так как передняя машина испортилась. Нас заставили сбросить ее с дороги. Отодвинув ее с дороги мы не сели на машины, несмотря на то что колона тронулась, а наоборот под повозками, лошадьми и прячась за машинами мы двинулись назад, подальше от наших машин. Нас было четверо, но потом неизвестно по какой причине Федотов отстал от нас. Дойдя до гор, мы свернули в горы, где увидели партизан и в деревне Колонтай дождались наших регулярных войск. (…)
1 июня 1944 г. В 2 часа дня. Сейчас я учусь в школе. Сегодня я сдавал первые испытания по русскому письменному, писали изложение. Надеюсь, что смогу сдать все испытания. Дела лично у меня идут неплохо, потому что я ни с кем, ничем не связан, особенно с девочками. Вову Ломакина, который работал на радио-узле сегодня должны отправить в армию, т. к. он 1926 г., то же самое с Вовой, с которым я работал на телефонной станции. Вова Чубаров был взят в армию еще в апреле, сражался под Севастополем, отличился. Алик приехал 3-го мая и поступил в школу, но недавно он бросил школу и пошел на табачную фабрику учеником механика. Гувин заворачивает в комсомоле. Я тоже думаю вступать в комсомол.
Все 1927 года 3 раза в неделю занимаются в военкомате, а также по воскресеньям. Позавчера я купался в море. Несколько раз мне, Коле Левченко, Мецову и др. приходилось выполнять задания горкома. В классе я избран командиром звена.
Почти каждый день я вечером выхожу в город. Идут в театре концерты и кинокартины. В горсаду танцы в клубах и разные собрания. Мы переселились с Кооперативной 6 на Тимирязева 28, также во дворе пекарни. Немецких самолетов больше не показывается. Каждое воскресенье мы ходим в порт на воскресники. Сегодня мы получили письма от Нюры Алексенковой и от тети Оли. Диму, сына Нюры, который немного старше меня, еще в прошлом году взяли в армию. Они сообщают нам, что погиб отец моего брата Шурика, муж тети Маруси, а также сообщают их адрес.
15 октября 1944 г. В 11 ч. утра. Испытания сдал все и начал учиться в 8-м классе, но за буханку хлеба отца посадили на год и я поступил работать на табачную фабрику. Там я вместе с Генкой Зинченко разбираю и собираю части от гильзовых машин. В месяц я получаю 120 рублей и каждый день по 20 грамм на раскурку.
28 октября 1944 г. В 2 ч. дня. С табачной меня послали строить памятник и я сейчас строю. Сегодня я выходной, но завтра буду работать. Учусь в вечерней школе. Я написал заметку и ее поместили в «Победе» за 21-е число. Приговор отца утвердили. (…)
11 декабря 1944 г. В 7 ч. вечера. Теперь я уже допризывник и вчера целый день занимался в военкомате. 2-го меня приняли в ряды ВЛКСМ. В школу почти не хожу. За предыдущую неделю ездил один раз в Старый Крым за табаком, а другой в лес за дровами километров за 60.
Теперь я не имею почти ни одной свободной минуты: всю неделю работаю, а в воскресенье в военкомат с полвосьмого и до полвосьмого с перерывом на один час.
22 января 1945 г. Всю эту неделю я ходил в школу и там взял физику. На фабрике перешел из механиков в мотористы. Вчера не пошел в военкомат, так как перед этим отдежурил 24 часа возле мотора. Вчера часа в три приходил отец.
Сегодня день Ленина и все отдыхают. Наши войска взяли Варшаву, Лодзь и Краков. Появилось Кенигсбергское направление.
3 марта 1945 г. Всю эту неделю не ходил в школу. Написал письмо Лене и Яковенко. Отец приехал из Старого Крыма, где наголодался и просит помощи, а помочь нечем.
Сегодня работаю вечером.
3 мая 1945 г. Вчера и позавчера праздновали. Все время был с Колей, учили физику. Анатомию сдал на четыре. Коля учил меня танцевать. Он вскружил мне голову Бакинским училищем и теперь я мечтаю попасть туда. Вчера в 11 ч. 5 мин. вечера сообщили о взятии Берлина. Наши войска соединились с союзниками. 12 апреля умер Рузвельт. Сегодня сообщили, что Гебельс и Гитлер застрелились. В Италии немцы капитулируют. В общем война в Европе идет к концу. Отец все сидит.
На фабрику пришел американский дизель и уже стоит на ремонте, поплавились подшипники. В военкомате занятия кончились. С 8 апреля по 28 был на облаве. 29 на фабрике был вечер.
13 мая 1945 г. Наконец мы победили и война окончилась. 9-го пала последняя столица, которая еще была у немцев: Прага. 9-го был парад, мы с утра поехали за цветами, узнал я о конце войны примерно в 7 утра. Сейчас идет разоружение остатков немецких войск. Я опять работаю в гильзовом на подъемной машине и мимоходом учусь регулировке. 6-го был в военкомате, сдавали нормы по ГТО: гранату, прыжки, бег на километр.
Май 1941 г. Владивосток. Тепло, ярко светит солнце, и я с Лёней уже купаемся. На берегу много людей. Иностранцы с немецкого посольства, дети просят достать морских ежей, звездочки, нанырялись.
Июнь 1941, 22 число. На берегу купаются одни мальчишки. Немок с девочками нет. Идём домой. Флаги немцев сняты. Узнали, что фашисты неожиданно напали на нашу страну. (…)
Июль, 21 число. Пришла повестка, отца забрали. Мы с мамой не знали, куда уехал отец. Сегодня пришёл человек и сообщил, что отец служит у японской границы, недалеко от Владивостока. (…)
Сентябрь, 14 число. Едем по Уссурийску. Все в военной форме. Загружают танки, орудия. Много военных. Ехали очень долго. Попутка довезла до места, где стояли блиндажи. Смогли увидеться с отцом.
Сентябрь, 15 число. Отец повёл меня к специальному прибору, через который я увидел японских солдат совсем близко. Очень интересно смотреть, как маршируют солдаты туда-сюда, танки едут вдоль границы, было видно, что японцы очень сильные.
Июль, 1942 год. Получили записку от отца. Пишет, что находится под Сталинградом. Собираются в бой.
Приехал сослуживец отца, говорит, что он тяжело ранен, находится в госпитале.
Отца я больше не видел. Мама получила похоронку. Она очень плакала. Мне её очень жаль.
Июль, 1942 год. Слышал, что детей, чьи отцы погибли на фронте, принимают на пароходы работать и учиться морскому делу.
Август, 1942 год. Отказали. Говорят, что мал.
Сентябрь, 1942 год. Ходил в порт, загружал пароход, покормили, но в море не взяли. Голодно. Ходили с мальчишками по дворам около порта. Там, под брезентом, лежали горы продуктов для фронта. Пару баночек тушёнки раздобыл. Был в отделе кадров. Послали в порт на пароход, чистить танки. Задыхались от запаха, угара, затхлости. Покормили.
Июнь, 1943 год. В кадрах дали согласие на работу на судах Дальневосточного и Арктического пароходств. С бумажкой в руках прибежал на пароход. «Куда таких маленьких посылают, совсем ребёнок», — сказал боцман. Но взяли и сразу накормили.
1942-1943 годы. Получил мореходную книжку! Могу ходить за границу.
1 мая — 12 июля. Работали, стояли на руле, дежурили, красили, наводили порядок, готовили судно к приёмке. Американцы говорили, что советские суда самые чистые.
Октябрь-ноябрь. Жестокие шторма. Идём из США, Канады. Переход в Арктику. Выгрузка Севморпуть. Дальше на Владивосток. (…)
Ноябрь, 23 число. Ветер усиливается. Пока держимся. Пароход трещит по швам. Но нам такая погода на руку. Подводные лодки врага не появляются. Торпед можно не опасаться. (…)
Август, 5 число, 1945 г. Идём с опаской мимо японского острова Хоккайдо. Надо догнать конвой советских судов и вместе с ними пройти пролив Лаперуза и далее во Владивосток. (…)
Август, 7 число, 1945 г. Движемся к Южному Сахалину и Курильским островам. Высадили разведывательную группу на Курильские острова, шлюпка вернулась к пароходу.
Август, 8 число, 1945 г. Ночью подошло военное судно и пересадили еще одну разведывательную группу на наш пароход. Так как мы были торговым судном, нас не трогали. Таким образом, мы произвели несколько высадок краснофлотцев и разведгрупп на Южный Сахалин и Курильские острова.
Август, 9 число, 1945 г. Стою у руля. Не достаю, чтобы управлять. Ставлю ящик от снарядов. Движение на пароходе. Идём к северной части о. Хоккайдо.
Август, 10-11 число. Получили приказ блокировать северное побережье о. Хоккайдо. Боевая тревога! Торпеда идёт на пароход. Сосредоточили огонь малокалиберных пушек на след торпеды и изменили её траекторию.
Сентябрь, 1945 год. 27 дней длился наш рейс у берегов Южного Сахалина, Курильских островов, вблизи о. Хоккайдо, подвергаясь то обстрелам с берега зенитными орудиями противника, то обстрелам японских субмарин, то обстрелам самолётов, сбрасывающих на суда торпеды.
Сентябрь, 3 число, 1945 г. Получили приказ на переход в Магадан, затем в США и Канаду. (…) В послеобеденное время получили приказ всей команде построиться на палубе. Здесь уже находились краснофлотцы и морские пехотинцы. На палубу поднялись капитан Н.Ф. Буянов и первый помощник капитана А.Ф. Молодцов. Зачитали приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина о том, что 2 сентября 1945 года подписан пакт о безоговорочной капитуляции японской военщины. Нас поздравили, вечером накрыли праздничный стол. Все ликовали!